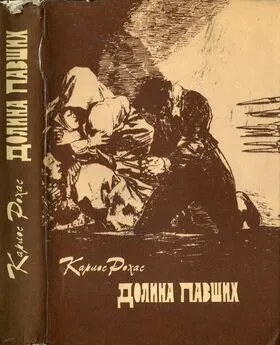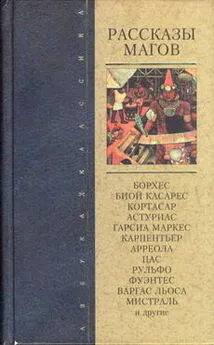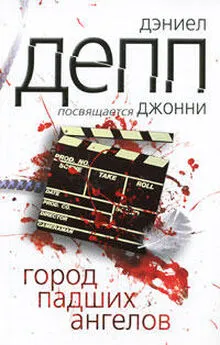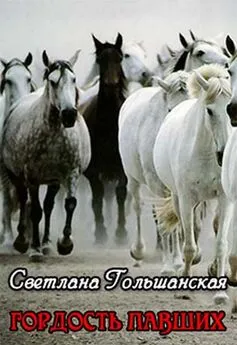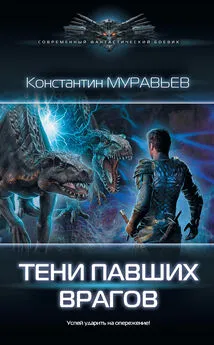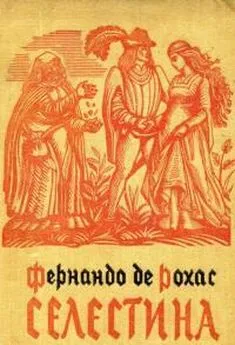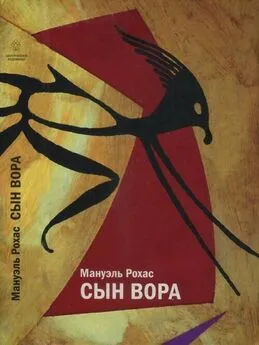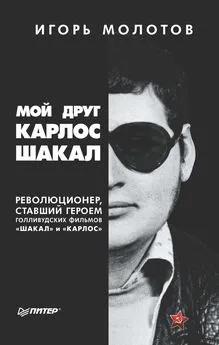Карлос Рохас - Долина павших
- Название:Долина павших
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карлос Рохас - Долина павших краткое содержание
Долина павших - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тема этого рисунка, скорее всего, была подсказана Гойе реальным эпизодом, упоминавшимся в газетных отчетах о возвращении Фернандо VII в Испанию после того, как он отрекся от сражавшихся соотечественников и раболепствовал перед Наполеоном. Впоследствии К. Маркс привел этот эпизод в работе «Революционная Испания» в качестве иллюстрации духовного порабощения испанского народа реакционной правящей кликой: «Редко мир был свидетелем столь унизительного зрелища… От Аранхуэса до Мадрида экипаж Фердинанда тащил народ… Над входом в здание кортесов в Мадриде красовалась большая бронзовая надпись „Свобода“; толпа бросилась к зданию, чтобы сорвать эту надпись; притащили лестницы и стали срывать буквы со стены, сбрасывая их одну за другой на мостовую под восторженные крики присутствовавших» [5] К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 10, с. 470.
.
Те же мотивы, только в символически-обобщенной форме, пронизывают некоторые «Нелепицы» и «черные картины из Дома Глухого». По тяжелой каменистой дороге толпа простонародья валит за монахами к якобы чудодейственному источнику Сан-Исидро; та же плебейская толпа на шабаше внимает наущениям козлорогого дьявола; два крестьянина, по-видимому пастуха, избивают друг друга дубинками, все глубже увязая в песке…
Это вовсе не значит, что Гойя разочаровался в испанском народе. Ведь в те же годы он пишет своих кузнецов, точильщика, продавщицу воды — поэтическое воплощение народного характера. Да и мог ли Гойя забыть героические, скорбные и трогательные сцены своих «Бедствий войны»? Мог ли он забыть своего повстанца — простолюдина в рваной рубахе, раскинувшего руки навстречу дулам французских ружей? В дни восстания против наполеоновских войск Гойя жил народным порывом. Очевидец майских дней 1808 г. потом писал: «И по прошествии двадцати лет волосы встают дыбом при воспоминании о той мрачной ночи, когда тишину разрывали лишь горестные вскрики несчастных жертв и выстрелы, сотрясавшие воздух и затихающие где-то вдали…» [6] Historia del levantamiento, guerra y revolución de España por el conde de Toreno. Paris, 1838, t. 1, p. 81.
Глухой Гойя не мог слышать крики расстреливаемых и гром выстрелов, но кажется, что звуковые волны сотрясали его душу, так угаданы и переданы на его картине «3 мая 1808 года в Мадриде: расстрел на холме Принца Пия» весь ужас и все величие той ночи: не только горе и отчаяние, о которых пишет мемуарист, но и ярость и презирающее смерть мужество.
Гойя, конечно, не перестал любить свой народ, не перестал видеть в нем могучего гиганта. Но он понял, что между народом и реакцией — всеми этими ослами, демонами, вампирами — существуют сложные и неоднозначные отношения. Не один Гойя понял тогда глубину этого противоречия. Вот что писал Ларра через несколько лет после смерти Гойи: «Это великая сила, имя которой народ. Его обманывают, его попирают ногами, ходят по нему, карабкаются вверх, а он в поте лица своего копает землю и все должен переносить» [7] Мариано Хосе де Ларра. Сатирические очерки. М., 1956, с. 282.
.
Страшная пассивность народа, складывавшаяся веками, и необузданность его стихийных порывов — вот что ужасало и Гойю и Ларру. Но оба они знали, что на «человеке-тверди» (так называл Ларра народ) держится мир. Восстание и партизанская война, две революции и разгул контрреволюционного террора после каждой из них — первые три десятилетия XIX в. в Испании обнажили грозную диалектику истории. Народ был главной проблемой испанских революций. Осознание этой проблемы порождало сгущенный трагизм художественного мировидения: появлялись безумный великан Сатурн, пожирающий детское тельце, полузасыпанная песком собака с тоскующими от страха глазами, драка на дубинках, исходом которой может быть только гибель обоих, — все то, что заставляет зрителя потрясенно остановиться в центре пятьдесят шестого зала Прадо.
Вернемся к Карлосу Рохасу и современной испанской литературе, столь часто обращающейся к личности и творчеству Гойи в поисках ответов на вопросы, поставленные национальной историей. Не один Рохас почувствовал, что в слезливо-верноподданнической истерии, которую своими сообщениями о трогательных изъявлениях горя невинными младенцами и почтенными старцами официальная пресса нагнетала вокруг одра умирающего старика, дабы скрыть необратимый политический распад режима, воплощенного в этом старике, есть нечто от «Капричос» или «Нелепиц». В уже цитированной повести А. Мартинеса Менчена «Сладка и почетна смерть за родину» рассказывается, как в толпе, ожидавшей новостей, разнесся слух, что к постели Франко привезли покрывало с «чудотворного» изваяния Святой девы дель Пилар из Сарагосы: «Трюк с покрывалом опирается на самую почвенную традицию нашего Двора Чудес. И как будто иначе и быть не может, рядом всплывает слово, уже повторявшееся в дни этой бесконечной агонии, — слово „эсперпенто“».
Эсперпенто (по-испански пугало, страшилище) — маленькая гротескная пьеса, трагифарс. Ее изобретатель, Рамон дель Валье-Инклан, сказал однажды, что эсперпенто выдумал Гойя. Глядя на эсперпенто (будь то на сцене или в жизни), чувствуешь дыхание традиции Гойи.
Непрестанно обращаются к этой традиции писатели (их сегодня немало), исповедующие необходимость «национальной самокритики» испанцев. Национальная самокритика — это своего рода тотальная критика, направленная не столько на конкретные общественные явления, сколько на некий корень этих явлений — национальную психологию, вневременную сущность испанского характера, дающую себя знать на всем протяжении истории нации. «Нет, для Испании время не бежит: наша история — это бесконечное „Болеро“ Равеля, в котором повторяются и повторяются все те же ситуации…» — пишет Хуан Гойтисоло, формулируя один из центральных мотивов «национальной самокритики» — историческую стагнацию, странное и кажущееся писателю рационально необъяснимым отсутствие подлинного развития, о чем не раз сокрушаются и герои Рохаса. Другой, не менее характерный мотив «национальной самокритики» — мотив каинизма, братоубийства, объясняемого свойствами испанской натуры: нетерпимостью, жестокостью, гордыней индивидуализма. Воспоминания о гражданских войнах прошлых веков и войне, еще живой в памяти нынешнего поколения, питают эти сетования. Конечно, братоубийственная война всегда страшна — о крови, пролитой не только на фронте, но и в тылу в Испании 1936–1939 гг., писали Сент-Экзюпери, Хемингуэй, многие прогрессивные историки и публицисты. Видный французский историк-марксист Пьер Вилар, выступая на созванном советскими учеными симпозиуме по проблемам национально-революционной войны в Испании, указал на необходимость и возможность объективного исследования «белого» и «красного» террора. Идущие от далекого прошлого традиции и ожесточение недавних классовых боев способствовали тому, что война приобрела «характер мести социальных классов друг другу и сведения счетов между давними политическими и идеологическими противниками» [8] Р. ViIаr. La guerra de 1936 en la historia contemporánea de España. «Realidad», 1968, febrero-marzo, p. 78.
. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что особенно пропагандирующие национальную самокритику писатели (в их числе и К. Рохас, и X. Гойтисоло) — родом из Каталонии, где во время войны бесчинствовали анархисты…
Интервал:
Закладка: