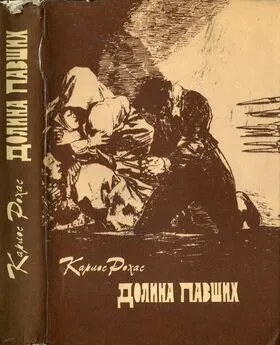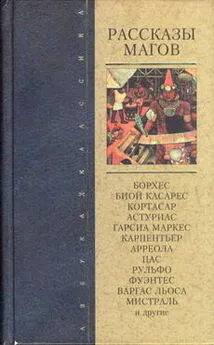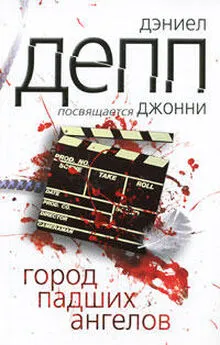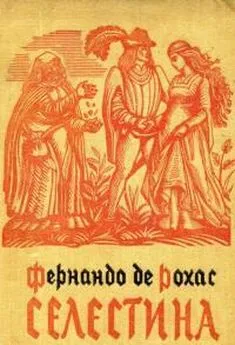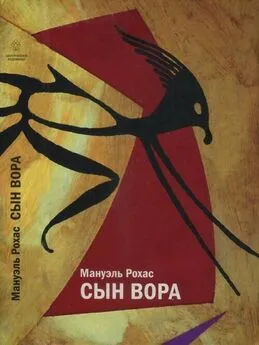Карлос Рохас - Долина павших
- Название:Долина павших
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карлос Рохас - Долина павших краткое содержание
Долина павших - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Смешнее не придумаешь, Ваше величество?..
— Ни мантии, ни короны, ни скипетра не было — все увезли французы при отступлении. Твой дружок, король-самозванец, может, и делился с тобою хлебом в голодные дни, но, удирая, прихватил с собой все — даже дворцовых пауков. Ну и решили, что на заседание Кортесов я отправлюсь в мундире генерал-капитана. А рядом с троном на кресло положили мантию, скипетр и корону, взятые со статуи святого Фернандо из Оружейной палаты.
Он довольно засмеялся, зажмурившись и сведя широкие и густые черные брови. Когда он смеялся, то походил на совсем другого человека, казался выше ростом, шире в плечах и в груди. И чем-то напоминал своего покойного отца, от которого не взял ничего — ни в лице, ни в повадке. (Аllora, appena il crepuscolo il giorno comincia a scolorire e nel traspasso dei colori tutto rimane calmo. «Никому не удержаться на ногах от моего пинка. Самые крепкие конюхи валятся точно кегли. В следующий раз мы пойдем с тобой на конюшню состязаться в барру, а потом я сыграю тебе на скрипке, если хочешь».) Сколько лет промчалось с того дня, когда мы с Хосефой были представлены его родителям и его вдовствовавшему деду, а его самого еще и на свете не было? Полвека или больше? Утекавшее время вдали истончалось в ниточку, как реки в руслах под вечер. Порою кажется, что прошлого вовсе не было. К нему начинаешь относиться, как к сказкам — когда наверняка и заведомо знаешь, что в жизни такого не случится.
— Вся наша страна — сплошь тени и фарс, — сказал я, когда он перестал смеяться, потому что раньше он бы не услышал. — У нас никогда не было и не будет ничего по-настоящему. Даже горя — оно со временем тоже забывается.
— Вот уж нет, старина! Тут ты ошибаешься! — Он резко выпрямился в кресле. — Когда ты пишешь, ты видишь то, чего не удается разглядеть никому, короче говоря, то, что называешь правдой. А стоит тебе заговорить, и порою кажется, что ты не глух, а слеп. В конечном счете стране останутся три бесспорно настоящие вещи: народ, ты и я.
— Почему же только мы трое, сеньор? — И даже не слыша себя, я знал, что кричу. — Какое у нас на то моральное право, у нас, которые в минуты испытаний отворачиваются от всех? Если есть божий суд, то вас на нем ждет та же кара, что народ и меня самого.
— Из сказанного я должен сделать вывод, что, будь ты богом, ты не простил бы ни того, ни другого, ни третьего.
— Ваше величество может делать выводы, какие ему нравятся. Но в данном случае вы совершенно правы. Я — никто, но я прекрасно знаю, что кара вам уготована та же, что и нам.
— Мы с тобой очень разные, старина, и ты — еще безжалостнее меня. — Он снова пожал плечами. — Я всегда считал себя тигром, потому что ни разу не простил ни одного своего врага, и совесть меня за это не грызла. Не простил своей матери, покойницы; не простил Годоя, он теперь в изгнании; не простил Риего, даже когда его казнили; и Наполеона в аду тоже не простил, потому, что он грабил и оскорблял меня, когда я был беззащитен. Все меня травили и унижали, точно паршивую собаку, и я всегда — и в этой жизни, и в любой другой — буду для них как бешеный пес. И если бы вдруг явился призрак моей первой жены, человека, которого я любил больше всех на свете, и на коленях стал бы молить меня простить кого-нибудь из них — хотя бы мою мать, — я бы отвернулся, чтобы не слышать мольбы. — Он попытался улыбнуться, как будто улыбка могла смягчить металл в голосе. — Не думал ты, что я такой упрямый, правда? Злость — тоже достоинство, и этим достоинством обладаю я и мой народ.
Злобный, да, я знал, что он злобный. И подумал: а каким ему представляется народ? Людьми вроде той цыганки, его любовницы, Пепы из Малаги, или охальника — шута по кличке Лысый, некогда обычного сутенера, или вроде Угарте, в прежние времена грузчика, — словом, всей этой швали, что наедине тыкает ему и называет хозяином. Убежден, это отребье по духу ему ближе, чем все короли Европы. Меня вдруг пронзило, что мысль эта — не моя. Она принадлежала человеку, который, возможно, того не зная, был мною во время, еще не наставшее: человеку, которого в балагане на рю-дю-Манеж увидел в картах Живой Скелет.
— Но больше, чем все эти покойники, и больше даже, чем Годой, над вами надругался народ, шесть лет назад ворвавшись сюда во дворец. Вы что — забыли об этом?
— И еще больше — потом, когда я отказал в доверии правительству и вызвал правительственный кризис, надеясь, что в Мадрид подоспеют «сто тысяч сыновей святого Людовика» [114] Так в Испании называли французские войска, которые по решению Священного Союза были введены в страну для подавления революции 1820–1823 гг.
— вызволить меня из лап либералов. Чернь ворвалась с дьявольскими воплями, а королевская стража стояла, сложа руки, а то и вовсе браталась с толпой. Они переколотили палками все подвески на люстрах — им, видишь ли, нравилось, как они звякали, — вспороли ножами диваны. Мы спрятались на чердаке, за щетками и старыми циновками, сидели и слушали, как они орали, что меня вздернут, а королеву отошлют обратно в Германию, в публичный дом. Представь, что творилось с бедняжкой женой, моей третьей женой, она была такая благочестивая! Стихи писала ко дню непорочного зачатия. А еще большее унижение ждало летом, когда Кортесы сместили меня, объявив ненормальным. В закрытой карете отправили нас из Севильи в Кадис, потому что к тому времени «сто тысяч сыновей святого Людовика» уже вошли в Андалусию. Мы ехали мимо селений, и крестьянские орды набрасывались на карету, заставляли нас прижиматься лицом к стеклу и плевали в нас. В карете было адское пекло, слов нет рассказать. Сколько раз королева падала в обморок. Я, было, подумал, что она совсем умерла…
— И все-таки вы их простили.
— Тот же самый народ оказывал нам почет в Мадриде, когда нас освободили войска герцога Ангулемского. В те дни я мог ходить по улицам один и без оружия, и люди готовы были драться за то, чтобы целовать мне ноги. В храмах выставляли мое гипсовое изображение в мантии, взятой из театральной костюмерной. Я простил народ по той же самой причине, по какой еще раньше простил тебя за предательство, за то, что ты якшался с королем-самозванцем. По той же самой причине, по какой и себе всегда прощаю предательство. Ты, я, народ — мы совершенно одинаковые. В этом мире-сне одни мы — настоящие. Ради спасения жизни готовы расстаться со всем — и с честью и с душою, потому что в глубине этой самой души уверены: нет ничего настоящего — во всяком случае, на земле, — кроме нас самих… Не знаю, понял ли ты, что я хотел сказать.
— Очень хорошо понял, сеньор. Но я помню, и как вы мстили.
— Народ мстил: казни вершились публично и всемерно одобрялись. Бунтовщиков я никогда не жалел, настоящих бунтовщиков — не тех, кто защищал собственную жизнь, а всякие химеры вроде свободы или прав человека. Вместе с Торрихосом [115] Хосе Мариа де Торрихос (1791–1831) — либерал, принадлежавший к партии «восторженных», во время войны за независимость — маршал; в период нашествия «ста тысяч сыновей святого Людовика» возглавлял защиту Картахены. Впоследствии эмигрировал в Лондон. В 1830 г. высадился с отрядом на полуострове, намереваясь возглавить мятеж. Без суда был казнен по личному приказу Фернандо VII.
и его людьми взяли двенадцатилетнего мальчишку, он был у заговорщиков посыльным. Помню, когда ворвались во дворец и заставляли принять конституцию, мне показали другого парнишку и орали, что это — сын генерала Ласи, которого я когда-то велел расстрелять. Так вот, я собственной рукой написал приказ о казни Торрихоса и его банды. А внизу приписал: «Мальчишку тоже казнить». Тебя это шокирует, старина?
Интервал:
Закладка: