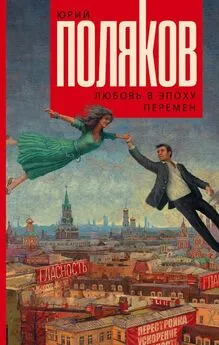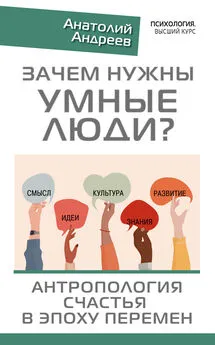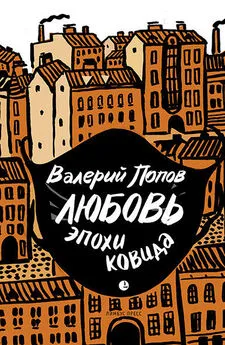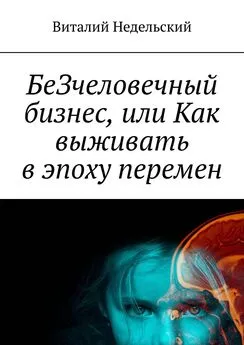Валерий Попов - Жизнь в эпоху перемен (1917–2017)
- Название:Жизнь в эпоху перемен (1917–2017)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Страта
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9500266-9-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Попов - Жизнь в эпоху перемен (1917–2017) краткое содержание
Опираясь на документальные свидетельства, вспоминая этапы собственного личностного и творческого становления, автор разворачивает полотно жизни противоречивой эпохи.
Жизнь в эпоху перемен (1917–2017) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Что это?! — проговорил режиссер (возможно, это был директор студии). Они смотрели на мою рукопись — с ужасом, примерно с таким же, как царь Валтасар на пиру — на зловещие письмена на стене. И теперь, стало быть, им надо подниматься и что-то делать?
Я понял, что сделал не то. Мелко кланяясь, я стал пятиться.
Один только человек отнесся к моему сценарию более-менее с душой. Я бежал с чемоданом в руке по ночной улице, освещенной желтыми фонарями. Булькал арык. Иногда раздавался короткий шорох… шарк! Это с обнаженных стволов слетали куски сухой коры и ударяли о твердую землю. Я бежал на вокзал. О машине и самолете уже не было речи. Плацкартный вагон! За мной мчался вспотевший администратор Женя и кричал на ходу:
— А почему Уюпов… не сказал Культяпову… что Сорокин — шпион?
— Забыл! — отвечал я, прерывисто дыша.
Расстались мы, однако, друзьями. Более того — Женя зашел в купе к проводнику и сказал таинственно: «Учти! Это очень большой человек едет!», и проводник угощал меня пловом весь путь.
И может быть, из-за этих запахов душа моя все еще оставалась в Ташкенте. Шла пустыня. Верблюды с облезлыми, линяющими боками зачем-то бежали за поездом… Ночью в поезде я лежал и думал о том, что покидаю любимый юг, что утром уже проснусь на севере и увижу снег.
Глава шестая. Новая жизнь (1923–1927)
Мои «предки» прожили в Ташкенте полтора года — одну зиму и два лета, и ко второй зиме возвратились в Березовку с тремя мешками зерна. Встреча с родными местами ошеломила их. На их маленьком степном полустанке несмотря на зиму кипела жизнь. Поезд из Ташкента встречала толпа. Прямо у вагона их радостно встретил извозчик, схватил два мешка, дотащил их в свои сани — но тут на него налетел другой извозчик, из длинной очереди саней, заорал, что первый по порядку — он, и они стали драться, и якобы «самозванец», с разбитым носом, кинулся в свои сани и укатил — с двумя их мешками. Отец, вспоминая ту историю, почему-то радостно хохотал.
От него это передалось и мне — радуюсь хитрому сюжету, даже если остаюсь в дураках. Из трех мешков у них остался один. Украли рис и горох, остался только маш — мелкие зеленоватые зерна. Отец однажды нашел маш на рынке и угостил меня этой кашей, рассказывая, что они еще с ташкентского детства полюбили ее, ели, приговаривая — «каша-маша, каша-маша». В родной Березовке встретил их отец, который в Ташкент с ними не ездил — более важные задачи увлекали его. Произошли удивительные перемены — крестьянам снова давали землю и разрешили продавать зерно, а не отдавать бесплатно, как в военный коммунизм. Говорили (впрочем, вполголоса), что Ленин стал главней Троцкого и дал людям жить. Но вскоре Ленин умер — однако НЭП (новая экономическая политика) — пока оставалась. Отец мой запомнил НЭП как время наибольшего расцвета деревни. Баранов развелось не менее, чем в Ташкенте, отары их заполоняли улицы. Открылись новые диковинные магазины с невиданными прежде заморскими товарами.
Времена у нас меняются быстро, как картинки в калейдоскопе, и каждая картинка поражает, будит фантазию, сулит что-то невозможное прежде, а потом почему-то это «новое» исчезает — и, как правило, сопровождаемое проклятиями…
Отец всю нашу длинную Историю запомнил в картинках, ярких и упоительных, хотя и рисковых… То же и у меня — все в картинках, хотя увидеть удалось меньше, чем отцу, меньше было «рисковых» поворотов… Хотя, наверно, и мне хватило.
В 1925 отцу исполнилось четырнадцать, и тянуло его в компанию ровесников, а также ровесниц. А в селе был уже открыт клуб — где молодежь искала общения, «тусовалась», как сказали бы сейчас. И — переходя на сегодняшний язык — чтобы быть принятым, надо было показаться «крутым». Отец оказался в той компании еще мальцом, младше всех… Тем более надо было проявить себя!
Чем сейчас «проявляет» себя молодежь? Даже не хочу касаться нынешней ситуации — боюсь увязнуть в этой теме надолго. А тогда — клуб был «заточен» на революционное воспитание, и проявлять себя надо было в каком-нибудь экстремальном действии. Экстремальность, увы, ценится и сейчас. Но в чем она сейчас проявляется? А тогда… и тогда, я думаю, диктовалось все не столько «революционным сознанием», сколько тайным желанием заслужить своим героическим поступком благосклонность какой-нибудь юной, но вполне уже заметной «жрицы искусства».
Ставился революционный спектакль, разоблачающий жадность попов, и какая-то будущая «звезда театра» воскликнула: «Иконы надо достать — чтобы все было реально! Ну что, Егорка, слабо?». Наверно, ловила на себе его жадные взгляды и решила на этом сыграть.
Егорка, естественно, небрежно сплюнул:
— А где брать-то?
— Чего — «где»? Ясное дело — в монастыре.
…Ого! Не слабо! Монастырь (помимо всего прочего) был за рекой! Монашек из монастыря изгнали, жили они по разным домам в селе, а в монастыре, по слухам, скрывались преступники… И вообще! Берег тот, хоть и за узкой речкой, считался диким и посещался редко. Земля та, хоть и отделялась узкой речкой, считалась дикой и необузданной, там жили какие-то весьма странные люди — цуканы, — способные на самые дикие поступки! Цуканами они назывались потому, что выступали обычно воинственно и напирали на «цо»: «Ну цо табе? Цо?». Поэтому из березовских никто там поодиночке не появлялся.
— Сделаем! Об чем речь! — произнес Егорка и, повернувшись, пошел, сопровождаемый, как думалось ему, всеобщим восхищением. И — поплыл. Передохнув на острове, дальше поплыл и выполз на вражеский берег… Не буду досочинять то, что отец не рассказывал. Повторю только то, что он рассказал… Когда он вошел в церковь монастыря, ему стало страшно. Никого — и со всех стен — суровые взгляды с икон.
И следующий кадр — сверкающая на закате река, и он переплывает ее… на иконах! Иконы он взял самые большие, размером (да простит меня всевышний за кощунство) примерно с доску для серфинга. Лежа животом на доске, греб, как теперешний серфингист, разгоняя доску. Потом вставал. Океанской волны не было. Но азарт был! Отец прыгал с этой доски в воду, вздымая освещенные солнцем брызги, и плыл сажонками к другой доске, взбирался брюхом на нее и разгонял ее в сторону берега, снова прыгал — и взбирался на третью, отстающую в этой «гонке» от других… Что он испытывал? Я думаю — веселье, азарт. Может быть, ощущение: это запомнится на всю жизнь. Выжимать из этого что-то многозначительно-поучительное (как разбило его потом громом) не хочу, те более — ничего такого не было. Может, потому, что комсомольским активистом отец не стал. Таков и я — ускользаю, когда толпа явно идет не туда, когда в толпе страшно или просто скучно…
Помню, что в Ленинграде нашему дому на Саперном № 7 почему-то полагалось воевать с домом № 8. Помню, как мы, замирая от ужаса, собирали огромные булыжники (их как раз заменяли на асфальт) и складывали их на подоконник второго этажа, как раз над аркой, чтобы швырять их в головы врагам. Когда куча булыжников стала огромной, я вдруг сказал спокойно, что мне надо зайти домой, и ушел. И сел читать книгу. Вскоре и остальные разошлись. Думаю, когда толпа собирается швырять булыжники в своих, потому что «так надо», — надо уходить и идти своей дорогой, постаравшись найти ее как можно раньше. Считаю, что это не трусость, а наоборот — самостоятельность. И мужество требуется как раз, чтобы найти свою дорогу, а не стадом идти. И отец от общественной жизни как-то отвлекся…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
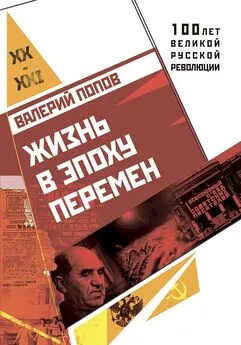
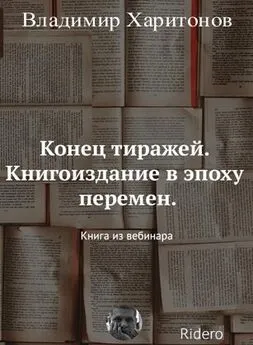
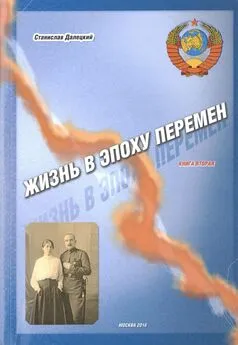
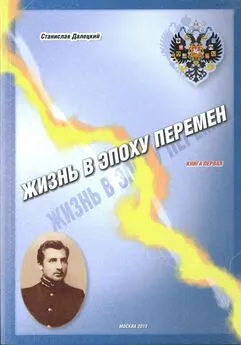

![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/1082420/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras.webp)
![Валерий Попов - Жизнь удалась [Повесть и рассказы]](/books/1082436/valerij-popov-zhizn-udalas-povest-i-rasskazy.webp)