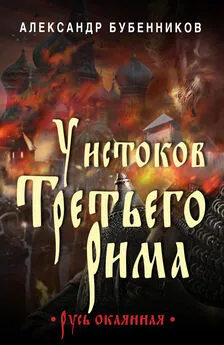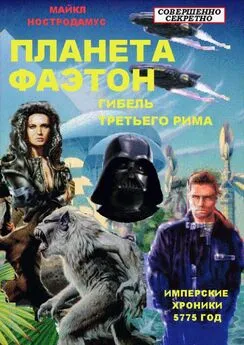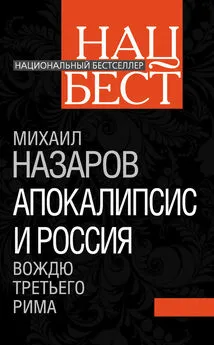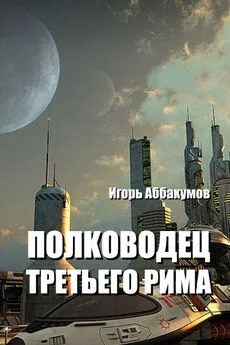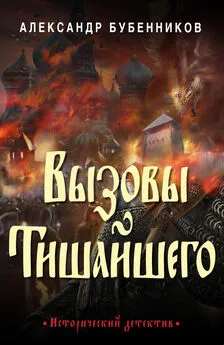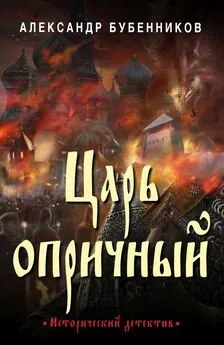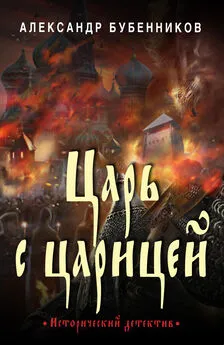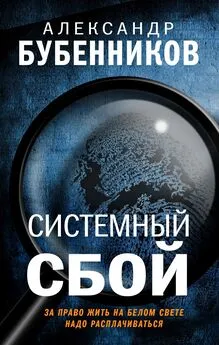Александр Бубенников - У истоков Третьего Рима
- Название:У истоков Третьего Рима
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-04-164465-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бубенников - У истоков Третьего Рима краткое содержание
Серия исторических романов охватывает вековой период истории Руси XV и XVI вв. (1480–1560 гг.) и рассказывает о прорыве Москвы, Третьего Рима, временах правления Василия III, Ивана IV. Романы тематически объединены в единое целое и могут быть весьма интересны и актуальны своими непреходящими историческими и нравственными уроками для современной России начала XXI века.
В сюжетные линии романов органично вплетены древнерусские произведения – летописные своды, жития, послания, духовные грамоты, освещающие не только личности князей и преподобных – героев романа, но и тайны русской истории и его великих государей, русского прорыва на Западе и Востоке, создания Великой Империи Ивана Великого и Ивана Грозного.
Цикл из шести исторических романов помогут глубже проникнуть в актуальные для нынешнего времени тайны отечественной истории первой Смуты в государстве и душах людей, приоткрыть неизвестные или малоизученные её страницы становления и укрепления русской государственности и гражданственности, и предназначается для всех интересующихся историей Руси-России.
У истоков Третьего Рима - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После недавнего устранения своего главного династического соперника царевича Дмитрия, имя которого так или иначе, в той или иной степени было связано с замешанной на астрологии ересью жидовствующих, пришедшей в Москву из Новгорода, государю была понятна и близка забота старца об устройстве «правильной» духовной жизни Пскова, входившего в новгородскую епархию и подчинявшегося тамошнему архиепископу. Филофей в своем послании настойчиво объяснял государю, что нельзя медлить с назначением на новгородскую кафедру авторитетного деятельного епископа, ибо промедление наносит серьезный удар по единству православной церкви и сеет смуту в умах и душах верующих, процветанию ереси, интересу к лжеучениям, той же астрологии.
«Да где же я тебе найду такого твердого в правой вере епископа, соратника государя который даст отпор еретикам и заткнет за пояс в ученом споре мудреных еретиков и изощренных сторонников астрологии? – подумал Василий. – После Геннадия Новгородского, которого батюшка недаром сместил с престола, нужен еще больший авторитет, умом великий, в учености не уступающий, а лучше превосходящий всех мирских и духовных людей. Местные не годятся, поскольку повязаны тайными узами с еретиками и их тайными сообщниками, а из архиреев в других монастырских обителях и приходах у большинства кишка тонка в смысле ума, знаний, опыта, чтобы взвалить на себя немыслимый груз ответственности, проводя в новгородской епархии тонкую промосковскую православную политику… Будем смотреть, приглядываться, искать и подбирать будем из новых игуменов больших и малых монастырей… Потерпит немного «вдовство»… Не будем торопиться с мятежной новгородской епархией, руководствуясь принципом – семь раз отмерь, приглядываясь к епископским кандидатурам, да один раз отрежь…»
Василий проигнорировал просьбы и мольбы Филофея, прислать по великокняжескому выбору новгородского епископа, чтобы положить конец «вдовству» кафедре и престола. Однако Василий внимательно рассмотрел два других вопроса, имеющих непосредственное отношение к псковским церковным и наместническим делам. Государя нельзя было обвинить в непроницательном взгляде на сложившееся положение дел в Пскове, он понял тонкий намек монаха на «московский след», что именно многие московские чиновники, притеснявшие православных псковитян, неправильно крестились и были скрытыми и откровенными содомитами. В этом его убедил и доклад Мисюрь-Мунехина не только о Третьем Риме, но и о серьезности грехов государевых чиновников и необходимости устранения из Пскова этих злых и порочных людей ради проявления «великого государева милосердия» к присоединенному к Москве городу на границе со шведами и Литвой.
В своем послании Филофей тему «московских грехов» умело переводит в мысль о проявлении милосердия к простым угнетенным псковитянам: «Обрати, государь, скупость свою в щедрость и жестокость в милосердие; утешь плачущих, которые причитают и днем, и ночью, избавь угнетенных от руки угнетателей…»
Филофей мудро предостерегает государя от неправедных действий в отношении всех псковитян, которых вольно или невольно Москва лишила имущества и богатства: «Не полагайся на золоту и славу, которые достаются здесь на земле и остаются в земле. Мудрый Соломон сказал: «Назначение богатства и золота не в том, чтобы хранить их в сундуках, но в применении их для помощи нуждающимся».
И, откликнувшись на послание Филофея, проявил Василий милосердие к Пскову, удалил двух жестокосердых и корыстолюбивых наместников, заменив их достойнейшими и благожелательными людьми: прежним псковским наместником князем Петром Великим-Шестуновым и Семеном Курбским. Содокладчик Филофея дьяк Мисюрь-Мунехин взял управление Псковом в свои руки, а подчиняемые ему другие дьяки остались на своих старых должностях. Псковитяне почувствовали себя спокойней, легче, безопаснее, вздохнули свободнее в новом уже не вечевом граде; многие беглецы и уехавшие иностранцы потянулись назад – и город понемногу стал процветать… А Василий уже думал о взятии Смоленска… Смоленск должен быть стать первой знаковой вехой на пути осуществления эсхатологического поступательного проекта Москвы – Третьего Рима… Только можно ли было до конца спланировать взятие Смоленска и, тем более, построение Третьего Рима от первого кирпичика Филофея в его основание?..
Великий князь Василий не любил обдумывать подолгу своих планов, ибо не верил, что доскональные планы обязательно сбываются. По этой же причине менее всего думал, как совершить очевидное зло только для того, чтобы обрести явную выгоду себе и престолу, на который его вознесла княжья воля его отца-государя. Детальным планам и умствованиям он предпочитал плыть по воле волн и обстоятельств, только в круговерти этих волн учитывать появившиеся возможности улучшить своё положение, как, впрочем, и положение своего государства. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, складывались те или иные представления, что делать и как находить выход, и он всегда с удовлетворением отмечал, что никогда бы не предпринял шагов, которые только что предпринял, сообразуясь с советами боярской Думы и ближних дьяков, если бы он их мысленно подолгу планировал в одиночку.
Он догадывался, что плыть всю свою жизнь, всё свое правление на престоле, по воле волн и случайных обстоятельств, наверняка, опасно и ему и престолу. Инстинкт самосохранения подсказывал Василию, что буквально «из воздуха» нужно извлекать пользу для себя и престола, замечая то, чего не могли заметить самые проницательные его советники, а именно, в силу божественной природы великокняжеской власти.
Ведь сомневался же его, Василия, отец, Иван Великий, кому отдавать престол – Дмитрию или Василию? Сомневался до последних мгновений, а в итоге престол у него, Василия. И с отправлением в небытие своего главного династического соперника возникают новые сомнения после мыслей о развитии проекта Москвы – Третьего Рима. Так ли крепок, так ли неуязвим престол этого нового Третьего Рима, когда брак престолонаследника Ивана Великого по-прежнему бездетен?.. Василий пока меньше всего думал о многочисленных родных братьях, новых соперниках в престольной круговерти, но одна мысль уже давно не давала ему покоя. «Может, пример несчастного бездетного брака сестры Елены и короля Александра, приведший к скорой погибели обоих, всего лишь предтеча моего будущего бедственного положения, шаткости престола – и всё это в у самых истоков Третьего Рима… Как легко заглохнуть этому ручейку, исчезнуть истоку при самом его мыслительном зарождении… И нет, не будет Божьего промысла в развитии благочестивой идеи Третьего Рима – всё оборвется, так и не начавшись… Ибо сколько уже лет нет в браке с Соломонией сына-престолонаследника, вообще, детей нет никаких… Неужели и меня постигнет проклятье нашего рода за грехи отцов и матерей?.. Или всё же что-то произойдет – по воле волн и обстоятельств… Только человек иногда сам способен порождать полезные ему волны и обстоятельства… Только как, каким образом?..»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: