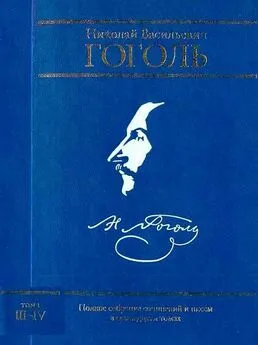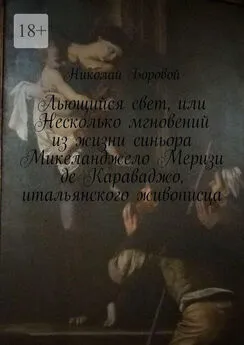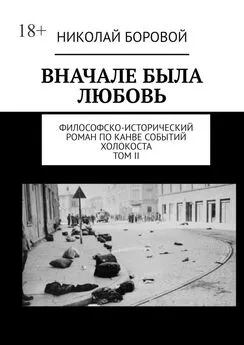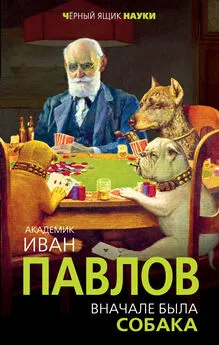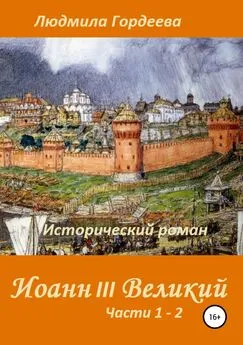Николай Боровой - ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
- Название:ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005507129
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Боровой - ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI краткое содержание
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Свежим, предвещавшим осень утром, они обнаружили в садике возле дома установленный шезлонг и стол для пикников, пару плетеных кресел для полуденного отдыха, большой кружевной зонтик для пани от солнца или ветра, свежие газеты. Их почти не было видно из двора и окон гостиницы, но даже для дальнего взгляда должно было блюсти легенду респектабельной пары, отдыхающей с привычным для себя образом жизни. И они завтракали возле дома, с видом на горы, после – уходили гулять на берег речушки. После обеда, она дремала в шезлонге, одетая в красивое платье, или возле него, положив голову ему на плечи, он – читал газету или просто, задрав голову, блаженно смотрел на высоченные горы, и для стороннего взгляда не могло быть лучшей и более убедительной картины. Прошла уже неделя, и всё было благополучно. Несколько раз, либо издалека, либо проходя через двор, они холодно и вежливо здоровались с сидящими там посетителями, в ответ получая уважительные поклоны, и Войцех с трепетом и удовлетворением подмечал, что пока придуманное ими работает. И усмехался, с горечью – как меняет людей жизнь… Шестидесяти трех летний пан Юлиуш, университетский старожил, простой секретарь и служащий, с которым были бесконечно уважительны и приветливы самые маститые профессора, сумел придумать всё так хитро и безошибочно умно, что и он сам, с успешным опытом работы связным и жизни под легендой, с выработанной привычкой бежать и скрываться, лучше бы и не смог. Один раз лишь случилось то, что заставило его внутренне дрогнуть, но слава богу – всё обошлось более, чем хорошо. В очередной раз проходя по гостиничному двору, они вдруг увидели, что сидевший за столиком с семьей мужчина, встал и решительным шагом направился к ним. Приличия требовали задержаться, Войцех сделал это со всей отдающей недовольством, вежливой неторопливостью, на которую только был способен. Подошедший мужчина, хоть и был одет в гражданскую одежду для отдыха, по военному строго и четко поклонился им обоим, почти щелкнув по привычке каблуками туфель, представился – «майор Штернборк, из интендантской службы генерал-губернаторства, на отдыхе с женой и двумя детьми». У Войцеха похолодело внутри, однако – он собрался, вежливо и с улыбкой, но с той неторопливостью и тяжеловесностью, которая всегда проводит требуемую и справедливую грань, отдает сознанием собственного статуса и безоговорочным, положенным по статусу превосходством, представился в ответ – «Витольд Жижетски, моя жена, пани Эмилия… мы здесь так же на тихом семейном отдыхе… специально здесь, подальше от суеты и поближе к простоте и покою… Горы, совершенный покой, прогулки… нам это более всего ценно». Титул «князь» он специально не произнес, словно оставляя само собой разумеющимся, что тот известен. Это должно было выглядеть так сказать «демократичным», уважительным к собеседнику и от того – еще более убедительным. В иные времена и если бы он был здесь собой, профессором Ягеллонского университета, автором глубочайших философских книг, этот человек вызвал бы у него холод и откровенную неприязнь, и он навряд ли был бы с тем даже по настоящему вежлив. Он всю свою жизнь считал собственно людьми лишь людей духа и творчества, живущих любовью и разумом, совестью и жертвенным трудом над собой, а обывательство, во имя самых разнообразных химер использующее жизнь и превращающее ее в «ничто», зачастую яростно и откровенно ненавидел. В особенности, по понятным причинам, ненавидел именно «служивую братию», какие бы погоны та не носила – такая судьба в принципе не оставляет человеку право на личность и совесть, и обладая хоть каким-то личностным началом, какой-нибудь самостоятельностью решений и суждений, человек не сумеет с этой судьбой сжиться. Но «потомку старинного польского рода» приемлемо было быть холодно вежливым и любезным с немецким офицером. Особенно – если учесть, что за его обликом скрывался дрожащий от волнения, страха и ненависти, беглый профессор и еврей, давно должный гнить в гетто или быть задушенным газом. Он сделал легкий акцент на словах об отдыхе, вежливо проводя черту, и увидел – сработало. Представляя Магдалену, обратил внимание, что и она, вспомнив себя прежнюю, ответила на приветствие той же самой спокойной и безразлично-любезной улыбкой, которой в той своей жизни отшивала неприятных ей ухажеров. Увидел, что и это работало хорошо, ощутил уверенность и добавил на своем, очень красивом и чеканном немецком, что встречался года полтора назад по делам семьи с герром Сенковски… наверное, и герр майор, по своей интендантской работе, имеет причины встречаться, и встречается, конечно?.. Дело было сделано, черта была проведена вежливо и наотмашь, непреодолимо и с полным признанием, ибо после этих слов становилось понятно, что пан Витольд с женой и герр майор живут и контактируют на совершенно разных уровнях вселенной. Не решаясь сказать, конечно же, что министра финансов генерал-губернаторства он видит только на торжественных мероприятиях и издалека, майор Шернборк с уважением и натянутой как струна четкостью, еще раз поклонился и пожелал герру и фрау Жижетски доброго дня и отдыха. Неторопливо проходя дальше, Войцех слышал приглушенное и уважительное гудение, которым герр майор сообщал жене, с кем говорил. Он был уверен, что если бы сейчас мог видеть глаза майора интендантской службы, то обнаружил бы в них тот характерный блеск, с которым смотрят обычно на людей, превосходство которых неоспоримо, справедливо и не вызывает ничего, кроме уважения и желания угодить. Этот человек скорее всего и подошел поздороваться, желая не столько завязать контакт, сколько официально выразить уважение постояльцам, о которых успел прослышать. Да, немцы – хозяева… Но ревностно щелкающие каблуками бюргеры, жаждущие получить хоть какую-то должность на оккупированных территориях и урвать пусть даже что-нибудь, а желательно – как можно больше, конечно испытывают положенное почтение к тем полякам из высшего дворянства, которые, невзирая на оккупацию, сохраняют огромную собственность и благорасположение их новых хозяев и господ. Всё пока работало, и это внушало хоть какую-то надежду. Оставалось лишь удивляться с иронией, как всё это выходит у них – гонимых, живущих на последней степени душевного напряжения… и молиться, чтобы так оставалось и дальше…
Серьезный разговор с паном Юлиушем состоялся уже на следующий день, глубоким вечером… Пану Юлиушу посчастливилось – его не было в Университете вечером 6 ноября, он избегнул участи многих сотрудников, даже не носивших профессорского звания… наверное и не подлежал ей в тот момент. Узнал он обо всем поздно вечером, из ураганом понесшихся слухов, а еще больше в последующие дни – и из слухов, и из официальных сообщений, и из подпольных вещаний Радио Польского. Он долго не думал. Университета более не было, а было лишь несколько опустевших, словно бы умерших старинных зданий с опечатанными дверями и эсэсовской охраной на входе, в которые можно было зайти только по специальному разрешению. Вчерашнего цвета польской и европейской науки тоже не было – были арестанты, рассованные по окрестным тюрьмам, которых ждала быть может самая страшная участь. Делать было в Кракове более нечего, как ничего, кроме опасности ареста, в нем уже нельзя было ждать и ловить. Они созвонились с родственниками, и вопрос о его переезде от греха подальше был решен. Уж если и было место, где возможно хоть сколько-нибудь безопасно и спокойно дожить, что суждено или пережить наступившие, кажущиеся бесконечными времена, то только тут… Услышав это, Войцех с Магдаленой понимающе переглянулись, вспомнив охватившие их с первой минуты и до сих пор, вопреки всем бедам, владеющие ими чувства. В первые пол года он лишь раз в месяц приезжал в Краков, следить за квартирой. Потом – когда значительную часть более пожилых профессоров освободили, стал наведываться чаще. Войцех узнал о гибели Хшановски и Стернбаха из вещания Радио Польске, где-то через год, уже будучи в Варшаве, а пан Юлиуш узнал об этом почти сразу, из уст «пана ректора», с которым встретился месяца через три после его освобождения. Пан Юлиуш рассказывал о ректоре Лер-Сплавински с воодушевлением и глубоким уважением. Три месяца в концлагере не запугали его, напротив – сделали, по словам пана Юлиуша, несломимым, еще более готовым бороться, каким-то отчаянно и героически решительным. И вот, говорил пан Юлиуш, уже как полгода, под его руководством возобновлено подпольное, тщательно и умело законспирированное преподавание, по обычным, сохранившимся с мирного времени учебным планам гуманитарного и естественного факультетов. «Знаете, пан профессор… это не только „символично“… Почти весь профессорский и преподавательский состав – кто жив и не уехал из Кракова, согласился рисковать и работать, курсы читаются довольно серьезно. Вы не представляете, как умно всё организовано, под самым носом у немцев. Ваш покорный слуга тоже чуть-чуть приложил к этому руку» – при этих словах пан Юлиуш довольно улыбнулся – «но настоящих сил нет, пан профессор… это я только тут, посреди гор и в покое кажусь бодрым. Так вот – не только „символично“. Но даже, если бы было только – вы не представляете, дорогой, как это важно. Как это вселяет в людей уверенность и надежду, чувство собственного достоинства… Жаль, что вас нет там, пан профессор, и к сожалению, по всем временам и опасностям, не может быть… кому было бы важнее и правильнее быть там, кто больше нес бы нравственную силу, волю к борьбе и польский дух»… Войцех вспоминал и думал… То, что рассказывал ему пан Юлиуш, полностью соответствовало облику Лер-Сплавински, каким тот остался в его памяти… он был бы удивлен, услышав что-то другое. До слез, до тяжелого от нахлынувших мыслей дыхания, его тронули слова пана Юлиуша о нем самом… Нет, всё же он ни в чем не может себя обвинить и упрекнуть. Он оставался эти годы верен себе и делал более, чем было дано любому другому человеку в его положении. Он старался быть поляком и патриотом практическими, опасными для жизни делами, даст бог – всё же не напрасными, послужившими чему-то важному. Да, всё кончилось крахом, факт… людям его сути наверное не место в таких делах… но что было дано и возможно – он делал, для совести и уважения к себе. И если что-то и привело к катастрофе в конечном итоге, то именно совесть и та решимость и готовность действовать, которая и означает настоящий патриотизм, которой у него, интеллигента и респектабельного профессора-сибарита, оказалось поболе, чем у многих. Он остался философом, профессором и интеллигентом – вот, в самых страшных событиях сохранена и через полстраны провезена его рукопись, которую он обязательно попытается передать через пана Юлиуша Лер-Сплавински… Она рождена, выношена, создана им в тех обстоятельствах, в которых другой только бы молился о том, чтобы выжить, и отчанно боролся за это… в которых большинство людей вообще теряет человеческий облик, а не то что достоинство, память о себе и способность на творчество. И видит бог – если им с Магдаленой всё же суждено пропасть и погибнуть, то эта рукопись будет более чем достойным концом пути и памятью, которой позавидовали бы многие!..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: