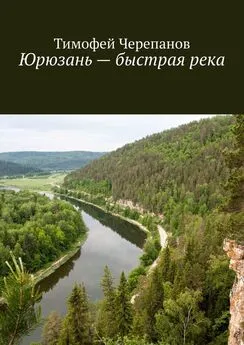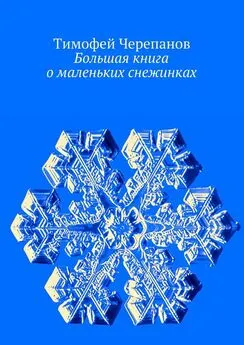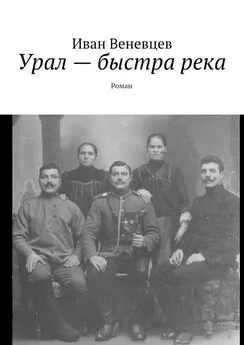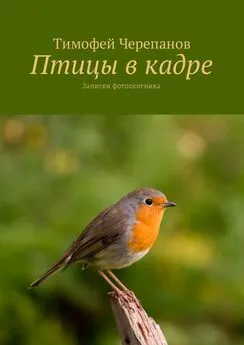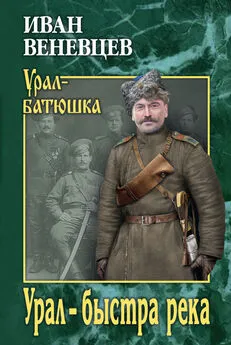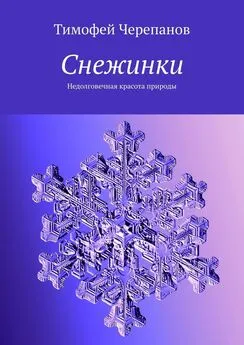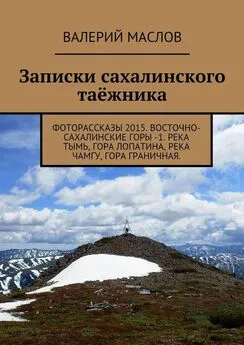Тимофей Черепанов - Юрюзань – быстрая река
- Название:Юрюзань – быстрая река
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449602527
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тимофей Черепанов - Юрюзань – быстрая река краткое содержание
Юрюзань – быстрая река - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Рис. 48. Посёлок Калмаш, вид на школьную гору. Середина 60-х годов

Рис. 49. Вид на пос. Калмаш в тумане со стороны Кисетовки (пос. Комсомольский). Середина 60-х годов. Закопь (дорога) позже была поднята и расширена
2.3. Река
До реки было в буквальном смысле слова рукой подать, она была естественным продолжением двора и улицы. На неё можно было просто смотреть, можно было найти подходящий камень-плитку на бечеве и пускать по воде круги – плишить. По берегу бегали непременные трясогузки, которых там тоже называют плишками – возможно, за манеру полёта, напоминающую скачки плитки по воде. В конце весны и в начале лета можно наблюдать подёнок, которые вылетают в таком множестве, что их кружение напоминает метель. Днём на бечеве иногда обнаруживались сидящие летучие мыши – жуткие существа, которые раскрывали зубастую пасть и шипели. Летали они только ночью и в сумерках.
Весна начиналась с того, что на подтаявшем снегу появлялось огромное количество насекомых серого цвета, напоминающих крылатых муравьёв, но раза в два крупнее – их называли распутками, от слова «распутица». Распутица не заставляла себя ждать, по логам начинали течь ручьи и можно было сделать деревянное колесо с лопастями – «мельницу», поставить его на каком-нибудь крошечном водопадике и смотреть, как оно вертится.
Где-то в середине апреля начинал трещать лёд, ночью мог разбудить как бы выстрел из маленькой пушки. Лёд мог двинуться, но тут же встать снова. Однажды днём я смотрел на реку с уже подсохшего бережка и вдруг огромная льдина от берега до берега двинулась вниз, но ниже лёд стоял ещё крепко и льдина ушла под него, закупорив таким образом реку. Вода начала прибывать прямо на глазах, до дороги оставались каких-нибудь полметра. Я испугался, но масса воды пошла по льду, сломав его ниже этой нерукотворной плотины, и лёд сместился ещё ниже. Вода начала спадать.
Часто ледоход начинался ночью, тогда треск сменялся равномерным шумом от трущихся льдин. Как-то утром, выглянув в окно, мы увидели двоих парней, которые прыгали с льдины на льдину, вооружившись шестами. Весна толкала на глупое геройство. Впрочем, мы потом поступали не хуже.
Иногда лёд всё же вставал, но уже ненадолго. Двое суток шёл чистый лёд, на третьи сутки появлялся грязный – это шёл с верховьев «заводской». Часть льдин выталкивало на бечеву и они лежали там до мая. Если по такой подтаявшей льдине ударить, она с хрустальным звоном рассыпалась на шестигранные кристаллы толщиной в карандаш. Река ещё две недели была мутной, а уровень воды поднимался минимум на метр. По воде плыло всё, что за зиму скопилось на берегах и всё, что река смогла отнять у суши: брёвна, мусор. Как-то плыла даже мёртвая корова, а однажды мы багром вытащили ящик, в котором оказались стеклянные баночки с горчицей.
Мужики, у которых были саки, выходили ловить рыбу. Сак – это огромный сачок, хотя правильнее было бы сказать, что сачок – это маленький сак. Но сачок все знают, а сак мало кто видел даже в музеях. Рукоять – шест длиной метров 6—7, а кошель из сети на перекладине вдвое короче. Его забрасывают как можно дальше в воду и подгребают к себе, утапливая до дна. Не бог весть какая добычливая снасть, да и работает только в мутной воде, когда рыба тоже ничего не видит.
По большой воде откуда-то с низов реки приходили два или три катера. Один был винтовой, побольше размером, и носил гордое имя «Сокол». Другие были водомётными и вместо собственного имени носили на борту лишь номер. Катера эти принадлежали сплавконторе.
Напротив дома заканчивался перекат и переходил в плёс, глубина была небольшой даже на середине реки, никто нас не ограничивал в том, чтобы плескаться в этой воде. Что мы и делали, как только вода начинала прогреваться. Купаться начали задолго до того, как научились плавать. Особый кайф был в том, чтобы делать это в дождь. Как только он начинался, мы мчались не от реки, а к ней. Дождь холодил, а вода – грела.
Иногда удавалось раздобыть лодку и переправиться на другой берег. Там был свой, особый мир. Можно было окинуть взглядом посёлок. В лесных краях горизонт представляет собой отдельную ценность, там ведь, как говорят, «небо с овчинку». Можно было нюхать цветы шиповника, который рос почему-то именно там, ещё там росла трава свербига, стебли которой хотелось жевать. Вдоль берега местами росла малина, а на бечеве – ежевика.
Как раз в те годы промышленность начала выпускать байдарки, и они появились на реке. Какие-то люди махали вёслами, иногда доносились обрывки разговоров. Они никогда не останавливались и воспринимались лишь как часть пейзажа. Хорошо помню изумление, когда одна из байдарок вдруг изменила курс и повернула к берегу. Иногда туристы сплавлялись даже на плотах из брёвен, подобно персонажам из фильма «Верные друзья». Надувные плоты появились намного позже.
2.4. Судовождение
Плавать по морю необходимо. Жить не так уж необходимо.
Древняя греческая поговорка
Нам тоже хотелось плавать, или, как говорят моряки, ходить по воде. Плавает, по их мнению, лишь известный вторичный продукт, а корабль ходит. Ни плавать, ни ходить было не на чём, если не удавалось раздобыть соседскую лодку-плоскодонку (иных на Юрюзани не строили). Уже не помню, кто подал нам гениальную в своей простоте идею – возможно, это был Володька, или же сами додумались. Безрассудство вообще в нашем детстве зашкаливало, но это было, пожалуй, абсолютным рекордом, достойным книги Гиннеса. В качестве плавсредства решено было использовать корыто. Да-да, самое обычное корыто из оцинкованного железа, которые были в каждой семье и использовались для стирки белья. У берега, где воды было по щиколотку, надо было аккуратно усесться в это корыто, отталкиваясь руками ото дна выровнять ватерлинию и потом так же аккуратно вывести корабль на глубину. Здесь уже надо было грести ладошками, стараясь не нарушить при этом балансировки. Излишне говорить, что высота бортов над ватерлинией не превышала двух-трёх сантиметров и малейшее неловкое движение могло привести, как пишут в учебниках по молевому сплаву, к утопу не только корыта, но и его шкипера, поскольку плавать мы тогда ещё не умели. За время пересечения реки таким способом течение сносило корыто на добрую сотню метров.
Понятно, что стащить из дома корыто мы могли лишь в те дни, когда родителей не было дома. Например, они уходили на покос, что летом происходило едва ли не ежедневно. Младшие – Ольга и Андрей – в наших делах не участвовали, поскольку Ольга была девчонкой и не считалась, а Андрей был намного младше и у него была уже своя жизнь. Соответственно и наябедить они не могли. Таким способом мы несколько раз пересекали реку. Но закончилось это, естественно, не лучшим образом, хотя и явно не худшим. Однажды я переплыл на другой берег, а Мишка направился туда же на соседской лодке – их не приковывали, и взять её на время грехом не считалось. Когда я отправился в обратный путь, Мишка, как сейчас пишут в гаишных протоколах, «не справился с управлением» и потопил корыто. Я успел уцепиться за лодку и влезть в неё. Вода в реке была большая и мутная, корыто унесло водой. Все наши попытки его обнаружить и подцепить багром, который использовался в качестве шеста, успехом не увенчались. Виноватым, естественно, посчитали опять-таки меня.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: