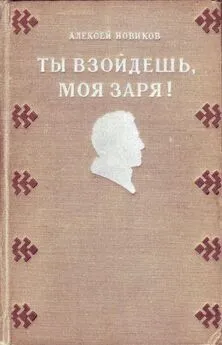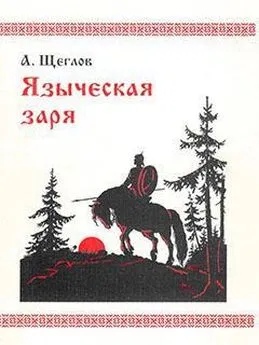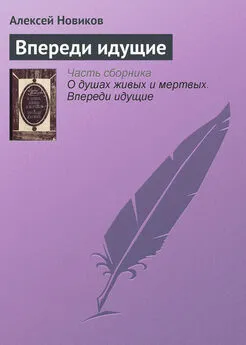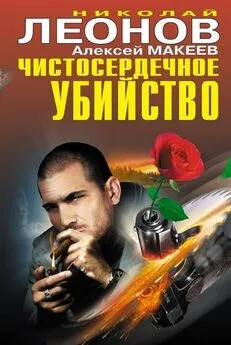Алексей Новиков - Ты взойдешь, моя заря!
- Название:Ты взойдешь, моя заря!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1953
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Новиков - Ты взойдешь, моя заря! краткое содержание
Роман «Ты взойдешь, моя заря!» посвящен зрелым годам, жизни и творчеству великого русского композитора Михаила Глинки.
Ты взойдешь, моя заря! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С той поры поэт начинает пристально следить за литературными упражнениями Загоскина, которые обильно плодились с соизволения императора и охранялись от критики грозной тенью Петропавловской крепости.
Загоскин и его подражатели перенесли в литературу официальную формулу: православие, самодержавие, народность. Наиболее прозорливые из журналистов разъясняли, что формула исторического бытия России будет не менее полной, если обозначить ее одним всеобъемлющим понятием – самодержавие, так как любовь к самодержцу уже включает и принадлежность к православию и все элементы народности.
Об этом не уставал говорить в журнале «Московский вестник» профессор Погодин. Другой московский журнал, «Вестник Европы», ратуя за те же исконные русские начала, сохранял на своих страницах даже такие вещественные памятники официальной народности, как буквы фита и ижица.
А число подписчиков все-таки резко катилось вниз. 1830 год, вознесший на вершину славы роман Загоскина, оказался роковым для этих журналов.
В Москве, когда-то славившейся обилием журналов, остался один «Московский телеграф». Его издатель, Николай Полевой, попрежнему ратовал за прогресс, за романтизм, за низвержение авторитетов. Но у московских романтиков из «Телеграфа» вдруг обнаружилось поразительное единомыслие с петербургской «Северной пчелой».
После возвеличения Загоскина издатель «Телеграфа» искал собственного кандидата в первые писатели России. По поводу ходульного романа Булгарина «Дмитрий-самозванец» романтик Полевой без тени юмора объявил в своем журнале, что Булгарин «подарил Россию историческим романом, достойным той степени европейской образованности, на которой стоит наше отечество». Далее в статье следовали язвительные строки о «поэмочках» знаменитых писателей.
Булгарин в свою очередь одобрил инициативу Полевого. «Справедливо! – писал он. – Медленное траурное шествие «Литературной газеты» и холодный прием, оказанный публикой поэме «Полтава», служит ясным доказательством, что очарование имен исчезло…»
Издатель «Северной пчелы» спешил отпраздновать победу и над Пушкиным и над «Литературной газетой».
«Литературная газета» после Июльской революции 1830 года, происшедшей во Франции, перепечатала стихи, посвященные безвестным героям, которые погибли на баррикадах. Издатель газеты Дельвиг был вызван к Бенкендорфу и после этого визита тяжело заболел. Участь «Литературной газеты» была предрешена. Русская словесность была головой выдана Фаддею Булгарину.
В Москве готовил новое сочинение Загоскин. С завидной быстротой росла рукопись романа «Рославлев, или русские в 1812 году». Писатель остался верен себе.
В пухлом четырехтомном произведении нашлась только одна строчка для упоминания имени народного полководца Кутузова. В романтическую интригу, от которой снова, несомненно, будут в восхищении дамы, автор опять вплел ядовитую клевету на народных партизан. Зато самые отъявленные тунеядцы и злостные крепостники мигом превращались в защитников отечества под его волшебным пером.
На чтения глав романа к Загоскину ездили приглашенные счастливцы. В кабинете, увешанном иконами, Михаил Николаевич радушно встречал гостей и усаживал их в покойные кресла. Хозяин развертывал рукопись и при воцарившемся молчании говорил:
– Позвольте предложить вашему вниманию нижеследующую сцену.
Сцена развертывалась на почтовой станции. Страна жила под угрозой нашествия Наполеона. Добродетельные проезжие из благородных дворян и честных купцов произносили трескучие монологи. Вели разговор в ожидании ездоков и почтовые ямщики, собравшиеся во дворе. Люди были настроены тревожно. Но тут появлялся старый ямщик, олицетворявший, по мысли автора, народную мудрость, смирение и всеобщее довольство.
– «Разве нет у нас батюшки православного царя? – читал за ямщика автор романа, и голос его дрогнул от прилива патриотических чувств. – По праздникам пустых щей не хлебаем, одежонка есть, браги не покупать стать. – Михаил Николаевич сделал короткую паузу и с бодростью продолжал читать, подражая простонародному говору: – А если худо, так что же? Знай про то царь-государь! Ему челом!»
Московские баре, присутствовавшие на чтении, заметно оживились. Ямщиковы мысли пришлись по вкусу. Патриоты, поспешно откочевавшие в 1812 году в дальние деревни, теперь наперебой говорили глубокоуважаемому автору о том, с какой верностью очертил он народные чувства.
Слушал эти речи и чиновник московского архива министерства иностранных дел Николай Александрович Мельгунов, невесть как попавший на литературный вечер для избранных. Мельгунову по праву принадлежит историческая реплика, брошенная после ухода от Загоскина. Николай Александрович шел в одиночестве по улице и вдруг, поднявши по привычке руки, горестно воскликнул:
– Бедная ты сиротка, матушка наша литература!
Глава вторая
В отзыве о сиротстве русской литературы Николай Александрович Мельгунов по обычаю погорячился. Еще в конце 1830 года вышел в свет, после многих мытарств, пушкинский «Борис Годунов». Демонстративно наградив Загоскина и указав должное направление русской словесности, император разрешил наконец печатать трагедию Пушкина. Но теперь и самый недогадливый из критиков мог наверняка сказать, как надо трактовать «Бориса Годунова». Народ представлен был в трагедии Пушкина без умильных монологов в адрес батюшки православного царя. Народ не произносил витиеватых речей о приверженности к вере православной. Народ не кичился ни щами, ни брагой. Народ не бил царю челом.
Но где же угнаться за Загоскиным! Несведущей рукой Пушкин изобразил в трагедии народ, ожидающий согласия Бориса на царство. Надо бы народу лить слезы восторга, как умеет лить их за народ Загоскин. Вот неиссыхающее перо! У Пушкина же в этот священный миг истории один из толпы просит луку, чтобы вызвать слезы, другой собирается мазать слюной бесстыжие глаза. И это-то богобоязненный, извечно преданный монархам народ!
Короче говоря, сверившись с историческими романами Загоскина или Булгарина, можно было безошибочно громить историческую трагедию Пушкина. Так оно и случилось. Журнальные сороки застрекотали, перья злобно заскрипели.
Наблюдал эту чернильную бурю и Николай Александрович Мельгунов; придя в должность, он объявил со свойственным ему пылом: никто не понимает «Годунова»!
Но и на этот раз оказался не совсем прав незадачливый пророк. Трагедия Пушкина была раскуплена в Петербурге в одно утро. Народное слово поэта с неизменной силой противостояло мутным потокам казенной литературы. Пушкин зорко следил за новыми сочинениями, рождавшимися в усадьбах квасных московских патриотов. Едва вышел в свет «Рославлев», поэт тотчас написал Вяземскому: «Что ты думаешь о «Рославлеве»?» Вяземский отвечал: «Нет истины ни в единой мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: