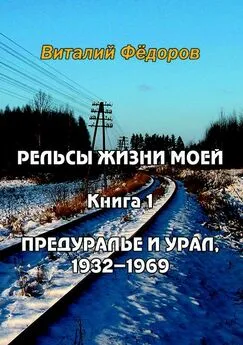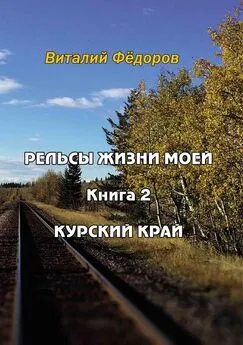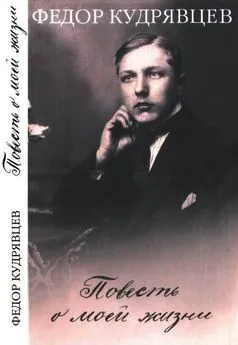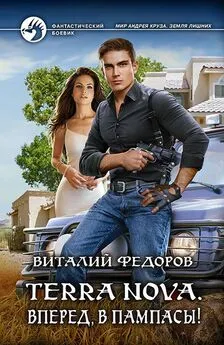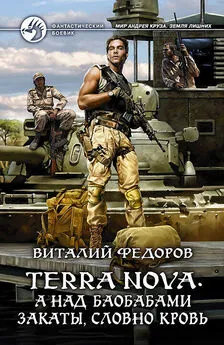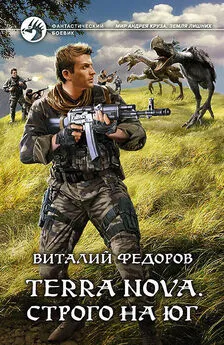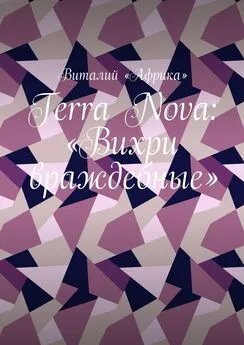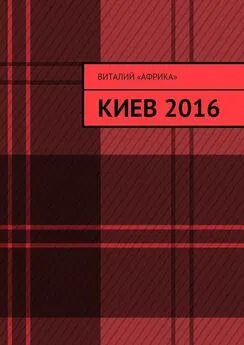Виталий Федоров - Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969
- Название:Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография Белый ветер
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Федоров - Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969 краткое содержание
В этой книге автор рассказывает нам историю своей жизни. Он рос босоногим мальчишкой в глухом удмуртском селе, но мечтал водить поезда.
Виталий Hиколаевич Фёдоров бережно сохранил в памяти и перенёс на бумагу общую атмосферу тридцатых-шестидесятых годов двадцатого века, уделяя особое внимание мелочам быта. Описал то, какое влияние на судьбы простых людей оказала война, как в их жизнь вмешивалась большая политика.
В книге использованы фотографии из личного архива автора.
© Автор Виталий Фёдоров
© Редактор Владимир Фёдоров, e-mail: fido6035@gmail.com
© Корректор Ольга Давыденко
Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава 92. ПО РОДНЫМ МЕСТАМ
В конце концов всё-таки решил поехать на запад, не загадывая, сколько проеду. Закомпостировал билет на фирменный поезд «Урал» Свердловск – Москва. Отправление вечером. Посадил Гутю на поезд. Простились тепло, но без слёз. Писать друг другу не обещали и адресами не обменивались.
Пошёл в город. В одном из магазинов купил белую накидку на верх своей чёрной железнодорожной фуражки. Теперь она была с белоснежным верхом, как у морских офицеров. Впрочем, перепутать можно было только издалека. В Свердловске было жарко, и мне пришлось одежду для другой погоды паковать в чемодан. Вечером поехал на поезде «туда – не знаю куда».
Лёг на полку и безмятежно проспал до утра. Скоро поезд остановился на большой станции. Я посмотрел, где стоим, оказалось – Пермь. Пора уже было делать выбор, где выходить. Мог я доехать и до Москвы, побыть там денёк и ехать обратно. Но что это мне даст, кроме возможности подольше прокатиться на поезде? А вот в двухстах сорока километрах отсюда моя малая родина, где живут родственники, друзья детства. Решил остановиться на станции Балезино. Правда, наиболее симпатичные мне родственники – Сусловы – переехали жить из Балезино в Гвардейск Калининградской области, а их сын, Миша, который моложе меня на три года, учился в авиационном училище Гражданского воздушного флота в Егорьевске, что под Москвой. (Забегая вперёд, скажу, что окончив училище, он летал штурманом в сторону Дальнего Востока).
Ещё в Балезино должен был быть мой дядя, мамин брат – Михаил Русских. У мамы было 6 сестёр и один брат, самый младший. После войны он вышел в отставку (до этого был офицером) и работал в Балезинской администрации. У него было четверо детей. Думаю, неплохое продолжение династии Русских.
Я сошёл с поезда в Балезино и решил сначала пойти к Фёдоровым – семье дяди Вани. Они жили недалеко от вокзала. Я не был у них более шести лет. Постучал в дверь. Мне открыл красивый юноша. Я восторженно воскликнул:
– Женька!
Он поморгал глазами и узнал меня:
– Витя!
Мы с ним были двоюродными братьями, поэтому и обнялись по-братски, без обиняков. Сзади Жени стояла симпатичная девушка и удивлённо смотрела на наши объятия. Я подошёл к девушке.
– Здравствуй, Галина. Я твой двоюродный брат, – представился я и протянул руку. Она робко подала свою. – Как ты выросла за то время, что я у вас не был!
Раньше, надо сказать, я не обращал на неё внимания. Она обычно сидела в своём детском уголке в другой комнате.
– А где, ребята, ваша мама? – спросил я.
– Она на работе, но скоро придёт на обед.
– Хорошо, подождём, – решил я. Хотя мог пойти и к ней на работу – знал, где она трудится. Женя сказал, что ему уже скоро в армию. Мы немного поговорили на разные темы, и тут пришла тётя Маруся. Увидев меня в железнодорожной форме, удивилась и обрадовалась. Как-никак, родственник, к тому же «свой брат» железнодорожник! Она всю свою трудовую деятельность посвятила железной дороге, а жизнь в целом, как и все вдовы войны – детям.
Вечером Женька предложил мне пойти с ним на танцы, и там познакомил с девушкой, которая училась во Всесоюзном государственном институте кинематографии на актёрском факультете. «Она уже снялась в небольшой роли в одном известном фильме», – по секрету сообщил мне Женька. Я потанцевал с ней пару раз, но тут пошёл довольно сильный дождь. Поскольку танцплощадка была открытой, нам пришлось возвращаться по домам. Мы с Женей провожали «актрису» до её дома. Она была на каникулах, как и все студенты. Что меня удивило – она сняла свои модные туфельки и понесла их в руках, шлёпая босиком по грязи. Наверное, вспомнила своё босоногое детство. Во всяком случае, мне хотелось думать, что причина в этом, а не в том, что она боялась их испачкать. Женька шепнул мне на ухо:
– Может, останешься поболтать с ней под навесом?
Но я не захотел задерживать босую девушку. Мы простились с ней и пошли с Женькой домой (их дома были недалеко). Он рассказал мне:
– В детстве мы с ней играли, она старше меня на год. Учились в одной школе, ходили туда вместе. А теперь я перед ней робею.
– Вроде, и я такой же. Особенно если девушка мне нравится, я никак не могу ей об этом сказать.
Навстречу нам выглянула Галинка:
– Ну что, натанцевались? Я знала, что будет дождь, и поэтому с вами не пошла.
– А мы тебя и не приглашали, – сказал Женя.
– Если бы хорошая погода, я бы и сама пошла, тебя не спросила, – отшила она брата.
– Ладно, хватит препираться, давайте спать, – вклинилась тётя Маруся. – Постели всем готовы.
Наутро дождь так не прекратился, и после завтрака я пошёл в поселковый совет, чтобы встретиться с моим дядей Михаилом. Но его там не оказалось. Мне сказали, что после похорон родителей, которые умерли вскоре друг за другом (им обоим было за восемьдесят), он забрал свою семью и уехал в дом родителей. Своего дядю я видел лишь один раз, ещё мальчишкой, когда впервые приходил в Балезино. Меня тогда познакомила с ним тётя Анфиса, его родная сестра. Она сейчас носила фамилию Суслова, а в девичестве была Русских. Помню, был он на работе в полувоенной форме, уже, конечно, без погон. Роста небольшого, голос как у моего дедушки, его отца. Он меня приглашал зайти к ним в гости после работы, но я заигрался с ребятами и забыл про приглашение дяди. Так я у него и не побывал.
На следующий день я решил пойти в деревню Квака при любой погоде. Негоже злоупотреблять гостеприимством тёти Маруси. Женька был на работе. Дождь прекратился к вечеру. Мы завели патефон и послушали «Старый забытый вальсок» и другие песенки. Тётя Маруся пошла в ночь на работу. Утром, когда она ещё не вернулась, я собрался и ушёл.
Зашагал в сторону Кваки, отмеряя давно привычные двадцать пять километров. После обеда пришёл в родную деревню, где не был более шести лет. Подворье моих предков находилось у самой дороги из Балезино, а дом стоял на главной улице деревни. Но встречала меня покосившаяся изба с обвалившейся крышей. Правда, в середине большого двора был выстроен небольшой домик, в который я и вошёл. Внутри была тётя Наташа. Я с ней поздоровался, но она меня не узнала. Я ведь заранее не сообщал о своём приезде, да и моя форма одежды её смутила – тёмно-синий китель с начищенными до блеска пуговицами, чёрная фуражка с белым верхом. Когда я назвался, она меня, конечно, признала, удивившись, как я вырос.
Она жила одна в своём домике. Две старшие дочери вышли замуж, а младшая жила со старшей Юлией в селе Красногорское. Дом ей соорудили, разобрав один из двух амбаров, построенных ещё моим дедушкой. Амбары ныне были совершенно не востребованы, жили здесь бедно, и хранить в них было нечего. Совсем другое дело было раньше, ещё до революции. Как мне рассказывали, тогда нижние этажи амбаров заполнялись зерном и мукой, а верхние – одеждой и всякой утварью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: