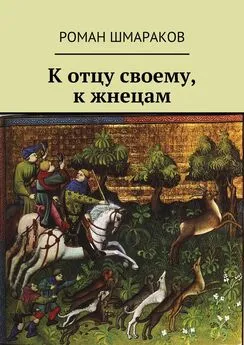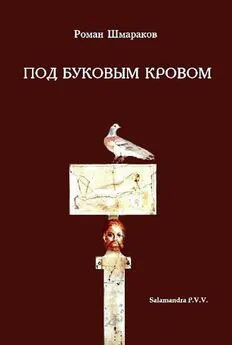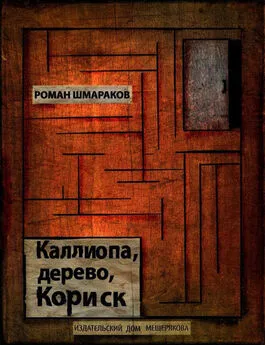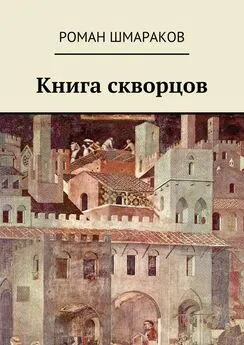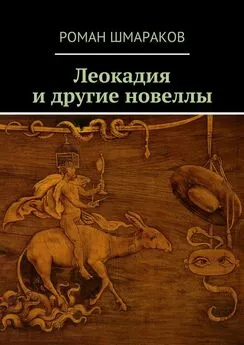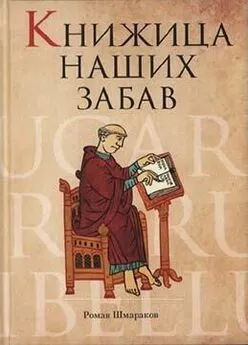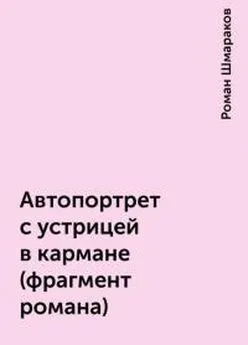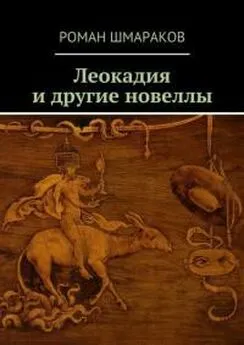Роман Шмараков - К отцу своему, к жнецам
- Название:К отцу своему, к жнецам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:9785447457662
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Шмараков - К отцу своему, к жнецам краткое содержание
Эпистолярный роман, действие которого происходит в Северной Франции в 1192 году, на фоне возвращения крестоносцев из Палестины.
К отцу своему, к жнецам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
будто в гиарских скалах заключен иль на малом Серифе,
благословляет он новое пристанище, ибо озаботился окружить себя богатством, свободным от вторжений случая. Человек же, который немощи свои держит перед глазами, вспоминает вины свои, без которых никто этой жизни не проходит, и со тщанием наблюдает, сколько постыдного в его делах, сколько недостойного в устах, сколько нечистого бывает в помышлении, видит, сколь многое он должен отсечь, если хочет по справедливости хвалиться. Тогда и прошлое будет для него уже не густой лабиринт и не труд внутри, но утешение и непостыдная надежда внутри.
54
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Человек, чьи рассказы о заморском странствии я тебе долго передавал, нынче поутру найден мертвым. Есть у нас садик, разбитый подле северной стены. Наша госпожа любит его, и о нем пекутся весьма прилежно. Там злаки растут, годные и на кухню, и на врачевание всяких недугов, там и деревья разного рода, радующие своим цветением, услаждающие плодами, дающие любезную тень в жару и пристанище птицам, платящим песнями за гостеприимство; близ этого сада калитка, давно в небрежении и почти заросшая; за нею-то, вне стен, и нашли его, заметив приоткрытую дверь, – нашли и поспешили эту скорбь отнести нашему господину. Тотчас закипели толки, для какой причины он вышел туда, где его обнаружили, и почему умер, быв ввечеру здоровым; говорят: «Горе посетило наш дом; лишь бы не было оно вестником будущих!»; вспоминают и лицо умершего, словно бы полное ужасом, и много о том толкуют; подумаешь, молва неразлучно со смертью ходит, угрюмый ее промысел делая еще ненавистней своею болтливостью. Поразительно это: отходит человек в дом вечности своей, и окружают его на площади не плачущие, но злословящие и присно готовые душу, недалеко ушедшую, отягчить клеветою. Выдавая свои догадки за нечто важное, они находят себе собеседников, готовых пустое мнение почтить за истину, как Саул – призрак Самуила, лишь бы им самим взамен позволилось выпустить на свет несколько призраков того же рода: подлинно, в их разговорах ламия почиет, до того они полны всякими чудовищами, как город, поросший тернием и крапивой. Нашлись и безумные, приписавшие эту смерть его собственной руке: мало им скорби, что человека верного и богобоязненного, кого и море пощадило, и языческая земля не пожрала, кому достался счастливый в отчизну возврат, среди мира и безопасности постигла пагуба, – нет, пресна их вкусу всякая скорбь, если не примешать к ней бесчестье. «Без меры удручало его, – говорят, – охлаждение нашего господина к охоте; одним ударом решился он и с горестями своими покончить, и владыке нанести неотплатную обиду». И такой навет обращают на человека, коему вся жизнь была училищем стойкости; на человека, на чьем теле оказалось множество старых ран и ни одной свежей; на человека, которого божественный закон научил, что ни смерти, приходящей по природе, страшиться не должно, ни понукать ее против природного порядка! Но есть ли злоречию законы, и обещало ли безумие ходить общим путем, не уклоняясь ни направо, ни налево? Ведь те, кто хвалит самоубийство, находя в нем некое величие духа, безумствуют с тем мудрецом, который, говорят, прочетши Платонову книгу о бессмертии души, низринулся со стены в море, полагая переселиться из сей жизни в ту, которую мнил лучшею, и о том не подумав, что сам его учитель не только не поощрял таких разделок с жизнию, но почитал их негодными и всячески осуждал. Чем еще защитят они свое безрассудство? Скажут с пророком: «Возьмите меня и бросьте в море, и утихнет море для вас»: но нет, не утихнет от них бурное море, но лишь хуже сделается.
55
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Явился ныне у наших ворот гость, никем не чаянный, и вошел в дом, где хозяин скорбит по верному своему слуге и лучшему спутнику. Нам, не покидавшим замка, этот человек не был известен; наш господин в странствиях с ним познакомился и был связан общей судьбою: он, приняв крест, путешествовал за море и вернулся счастливо. Теперь под нашим кровом смешалась печаль с гостеприимною заботой. Большое благо в том для нашего господина. Если будет ныне свидетель его помыслам, то лучше человек, который сумеет и чрезмерную скорбь их утолить, и дать им иное направление: потерянного не вернет и человека, чей отрезанный волос посвящен стигийскому Орку, не призовет в область живых, но мысли переменит и воскресит дом, равно мучимый будущим и прошедшим.
56
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Если бы какому-нибудь из смертных явилась сама Природа, в том величественном и милостивом виде, который ей присущ, и, ставши ему вождем, возвела его на небо, где бы он созерцал здание мира и красоту звезд, или в далекую пещеру низвела, «огромную, с зевом пространным», где бы явились ему таинства, от людских умов скрытые, и течение времен, – думаешь, изумило бы его и очаровало несравненное это зрелище, если бы он не имел, с кем поделиться увиденным? Обделила его Природа, если, допустив в свои скрытые чертоги, не дала собеседника и причастника его опытам.
Скажешь: «Цицерон внушил тебе эту картину: он в книге о дружбе говорит об этом, ссылаясь, если не ошибаюсь, на Архита Тарентского». И самый суровый противник древности, я думаю, не отвергнет свидетельство Цицерона, когда оно согласно с истиной; но если хочешь, вспомню и твои слова, боголюбезный муж: «Дружба, которая может прекратиться, никогда не была истинной». Это чувство, кажется мне, сперва природа напечатлела в человеческих умах, потом опыт его расширил, наконец власть закона утвердила. Ведь Бог, высшее могущество и высшее благо, Сам Себе довлеет, ибо благо Его, радость Его, слава Его, блаженство Его есть Он Сам, и нет ничего, в чем бы Он нуждался, – ни человек, ни ангел, ни небо, ни земля, ничего, что в них. И однако не только для Себя Он достаточен, но и всех вещей Он есть достаточность, подавая одним бытие, другим ощущение, иным же и разумение, Сам – всего сущего причина, всего ощущающего жизнь, всего разумеющего мудрость. Сам высшею природой все природы установил, все на своих местах урядил, все на свое время распределил, все Свои создания сочетав общностью и всему сущему уделив печать Своего единства. Небеса поют благоволение Божие, и силу Его возвещает твердь; если же великий закон, унявший стихии и взявший с них вечную клятву в верности, не всем виден – у всех ведь разные глаза – то вот трагическая сцена выводит любимое свое чадо, историю Ореста и Пилада, паче всего ценивших дружество: взгляни на них, когда оба, одной любовью одушевленные, за одну смерть состязаются! Так сковало их благочестие, так соединило благоволение, что, словно драгоценную награду, оспаривают они друг у друга имя Атрида, хотя предлежат его обладателю не почести и богатство, не слава и народная приязнь, но приговор от царя, мучения и кончина позорная. Взгляни на них взором владыки, в коем гнев мешается с изумлением: кого из них признать виновным в том, что он говорит правду, а кого – в том, что в нем говорит любовь; кого казнить, кого отпустить, и не казнить ли обоих ради их дерзости, что смеется над царским судом, – или, скорее, обоих помиловать ради того божества, что так властно в них действует? Взгляни и взором зрителя, рукоплещущего поэтическому вымыслу: подлинно, одно имя им подобает, если душа в них одна: ведь друзьями называем лишь тех, кому наше сердце доверить не боимся. Не диво, что царь различить их не может, если сами они, как в зеркало, смотрятся один в другого, объединенные согласием в делах божеских и человеческих? Но согласием, основанным на честности, – ибо сколь многих мы знаем, которые имеют несравненное согласие в пороках; которые связь дружбы, вечную, как законы естества, и любезную больше всех мирских услад, бесчестным опытам подвергают, словно аркадскую незакатную звезду погружая в авернских струях!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: