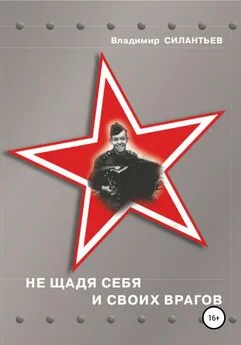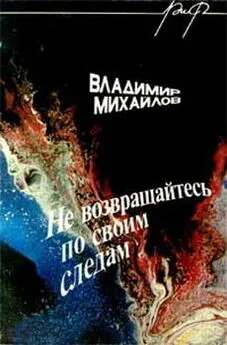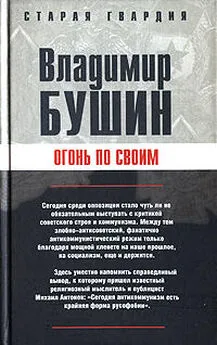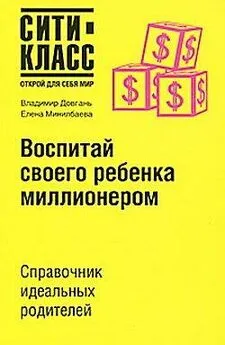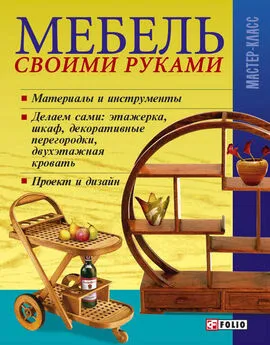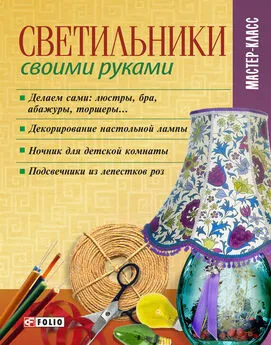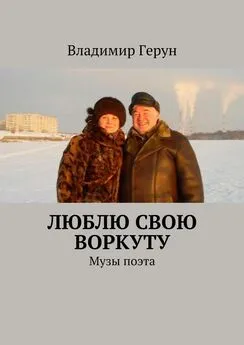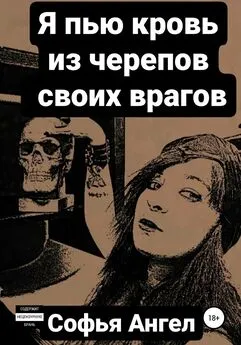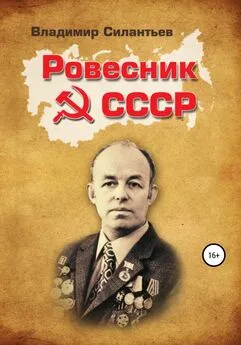Владимир Силантьев - Не щадя себя и своих врагов
- Название:Не щадя себя и своих врагов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Силантьев - Не щадя себя и своих врагов краткое содержание
Не щадя себя и своих врагов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Шутишь, сержант? Никуда не едут, стоят на месте!
– Неправда. Грузовики моторами, а танки пушками обращены на юг. Значит, колонна движется в одном направлении. А если бы в колонне были крупные арторудия, они стволами глядели бы назад. Но это, как говорится, семечки, Володя. Скажи, куда движется паровоз с вагонами, что сняты в углу снимка?
– Ты колдунья! Никуда не движется. Стоит на месте!
– Нет, движется! И тоже на юг.
– Это как сказать. Паровоз может толкать вагоны назад, находясь вроде бы впереди товарняка.
– Может. Но вглядись через лупу в темные колечки над тендером паровоза и первым вагоном. Это стелющийся дым от паровозной трубы. Эшелон движется и с большой скоростью.
– А теперь даю тебе задачку как бы из школьного учебника. Помнишь: поезд вышел из пункта А и достиг через час пункта Б. Так вот, засеченный вчера воинский эшелон в пункте А, скажем, на станции Псков, сегодня сфотографирован нашим разведчиком в пункте Б, например на железнодорожном узле Смоленска. О чем это говорит? А теперь посмотри второй снимок. Это укрепленная полоса противника. Ты видишь какие-то линии. То – окопы, траншеи, огневые пулеметные точки. По этим снимкам мы составляем фотодонесение, и его отправляют в Москву.
– Не пыльная работа, правда? А Пронькин хочет, чтобы я написал про вас стихи.
– И напиши! – воскликнула она. – Целую поэму. Как мы часами сидим, согнувшись над светящимся прибором для дешифровки негативов. Затем печатаем позитив, сортируем снимки, изготовляем фотопланшет.
Люся, как и Фаина Нартова, позже боевая подруга летчика Кузнецова, другие вольнонаемные дешифровщики служили вместе с сержантами—выпускниками Гомельского авиафотограмметрического военного училища. Они составляли важную, неотъемлемую часть полка – его фотоотделение, более двух десятков человек. Разбившись на группы, они путешествовали с боевыми эскадрильями по полевым аэродромам, с одного фронта на другой. Их служба начиналась рано утром, когда один из специалистов проверял в чреве «пешек» исправность установленных фотоаппаратов. Затем, после возвращения самолетов с боевого задания, он же снимал с аппарата тяжелую кассету с фильмом длиною до тридцати метров.
Право, не грязная работа, и пробензиненные авиамеханики с некоторой завистью смотрели на «фотиков». Они всегда в начищенных сапогах, в шинелях с блестящими пуговицами, причесанные и даже пахнущие тройным одеколоном. Впрочем, встречались мы редко. Нам, «технарям», устававшим до чертиков, было недосуг интересоваться житьем-бытьем, работой других служб. Порой уставали настолько, что, вернувшись от самолетов в гарнизон, в свою казарму, быстро сбрасывали сапоги и, уткнувшись носом в подушку, засыпали как убитые. Нас будили товарищи, зовя на ужин. Мы гневно мычали: «Дай поспать!» И пропускали очередной заход в столовую. В жаркую летнюю пору, когда в тыл к немцам улетали несколько экипажей разведчиков и каждый возвращался с рулоном отснятой пленки, доставалось и «фотикам».
– И не только им, моим подчиненным, – уточнил начальник разведки. – Бессонная ночь наступала для эскадрильских радистов. Они передавали разведдонесения в Москву. Одновременно принимали приказы на предстоящие полеты и прочее. Не представляю, когда они отдыхали.
– Помнится, в авиакатастрофе на аэродроме в Монино погиб фотоспециалист. Что случилось? Я стоял в почетном карауле.
– Добрая ему память, – с грустью сказал Морозов. – Это был Николай Галушин. Знаешь, он был «зайцем» в бомбардировщике, подсаженный по моему указанию. Ему поручалось опробовать установку цветной аэрофотосъемки. Важное новшество по тем временам. Мы имели специальную лабораторию для этой цели. В ней работали некоторые гражданские специалисты-москвичи. Но катастрофа оборвала наш эксперимент. К нему не возвращались всю войну. Зато занимались усовершенствованием техники, наши рационализаторы предложили аппарат для ночной съемки, качающуюся фотоустановку. Не кустарно на фронте, а в заводских условиях стали оснащать современным фотооборудованием наши самолеты, хотя они выпускались как «бомберы».
– А что же было самым ценным в работе «фотиков»? Чего мы не знали?
– В Главное разведуправление ВВС отправлялись наши фотодонесения с обозначенными на фотосхемах условными знаками. Они указывали на раскрытые с воздуха огневые точки противника, танковые и прочие препятствия. Словом, оборона фашистов. В Москве эти условные знаки переносились на крупномасштабные карты. Они рассылались по штабам наземных войск и – что важно – выдавались на предстоящий бой офицерам вплоть до командиров взводов.
ИСПЫТАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ
Вповседневных трудах, которые отнимали у нас все силы, мы забывали об опасности. Война же, жестокая и суровая, принимала все больший размах. Ее фронты на северо-западе уперлись в неприступный блокированный Ленинград, в леса и болота Валдайской возвышенности. На юге гитлеровская бронированная машина докатилась до Сталинграда и кавказских нефтепромыслов. Вчитываясь в сводки Совинформбюро, мы хмурились, едва обменивались мыслями, так как положение на фронте было яснее ясного – снова отступление. Молодцеватые летчики и механики взрослели, и не только потому, что многие перешагнули свое двадцатилетие.
И во второй год войны редко самолеты возвращались с боевого полета исправными. Авиамеханикам приходилось устранять неполадки, работая день и ночь. Случалось и так, что сутками не отходили от самолетов, трудились в лютый мороз. Одни не имели возможности отлучиться от самолета и погреться в землянке, другие боялись зайти туда, так как тепло печурки размаривало и засыпали стоя. А надо было работать. Летчики с болью смотрели на измученных авиаспециалистов и вместе с тем были им благодарны за полную исправность боевых машин, на которых они летали в глубокий тыл фашистов…
Мой первый самолет уже достаточно много послужил. На нем предстояло сменить моторы, так как на исходе был их 100-часовой моторесурс. Моторы вскоре забарахлили, и мы начали их демонтировать в полевых условиях. Фисак выделил на помощь Володю Майстрова, рыжего, в веснушках москвича, моего товарища по ленинградскому училищу.
Предложил свою помощь и Гриша Бельский. Став техником звена, он никак не мог привыкнуть к тому, что остался без своей «пешки», и стремился всем помогать как обычный механик. Нам же хотелось попробовать себя на самостоятельной работе – не век же жить с нянькой, но от помощи не отказывались.
Авиационный мотор состоял, казалось, из миллиона винтиков и болтов, гаек и гаечек, шестерен и шарниров. А сколько было вокруг него тяг, тросов, патрубков! Они переплетались, как капилляры кровеносной системы. Чтобы отличить один патрубок от другого, их красили в разные цвета. Снимаешь капот с мотора и любуешься яркой мозаикой: какое хаотическое нагромождение красок! Но нам, авиамеханикам, эта красота редко доставляла удовольствие, чаще хлопоты…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: