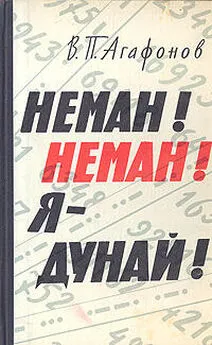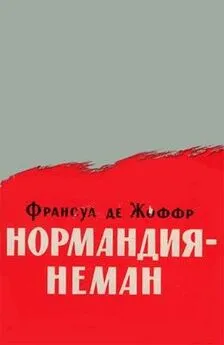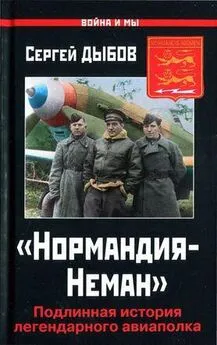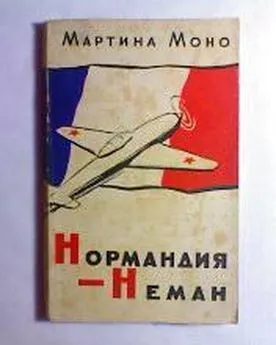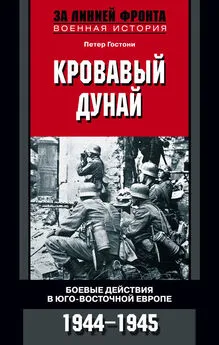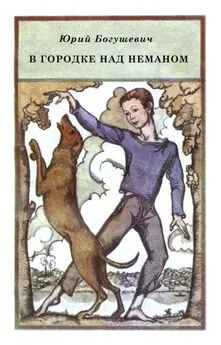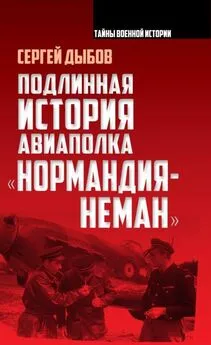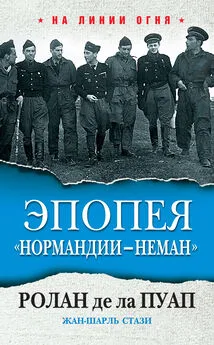Василий Агафонов - Неман! Неман! Я — Дунай!
- Название:Неман! Неман! Я — Дунай!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1967
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Агафонов - Неман! Неман! Я — Дунай! краткое содержание
В великой победе, которую одержала над врагом Советская Армия, не последнюю роль сыграли воины-связисты. Воспоминания В. П. Агафонова — первая книга о связистах в серии «Военные мемуары». В дни Великой Отечественной войны автор являлся начальником связи 11-й, а затем 27-й армий, с которыми прошел боевой путь от Немана до Дуная. Тепло и взволнованно рассказывает В. П. Агафонов о своих товарищах, с которыми форсировал Днепр, участвовал в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, сражался за Балатон. Словно живые, встают на страницах книги рядовые связисты и офицеры — люди, беззаветно преданные воинскому долгу, люди, чье мастерство мужало в боях.
Эта книга с сайта «Военная литература», также известного как Милитера. militera.lib.ru
Неман! Неман! Я — Дунай! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Основные радиосредства и весь автотранспорт армейского полка связи пришлось оставить в Бужанке. С оперативной группой командарма находились только пять радиостанций и два приемника. Их мы перевозили на подводах или переносили на руках.
В условиях быстрого продвижения войск радио являлось основным, а иногда и единственным средством связи. Радиогруппу возглавил инженер-капитан Комаров. Узел связи наш выглядел весьма примитивно: радиогруппа из двух работающих радиостанций (РСБ и РБМ) и двух приемников; телеграфная станция на один аппарат СТ-35 и Морзе и телефонная — на 6–8 абонентов внутренней и дальней связи. Две радиостанции РБМ, составлявшие мой резерв, пришлось отдать в корпуса.
Радиосвязь с соединениями поддерживалась по сети командарма радиостанцией РБМ. На период движения устанавливалось строго определенное время работы. В предусмотренные часы делались короткие остановки, и командарм вел переговоры с командирами соединений.
Радиосвязь со штабом фронта и с взаимодействующими армиями поддерживалась только во время остановок. Но вскоре мы потеряли связь со штабом фронта [5] Позднее начальник связи фронта генерал Н. С. Матвеев рассказал, что они слышали все наши вызовы, но ответить не могли: отстала где-то в пути работавшая с нами радиостанция. — Прим. авт.
. И случилось это как раз в тот момент, когда отсутствовала проводная связь.
— Молчат, товарищ полковник, — доложил мне инженер-капитан Комаров. — Сколько ни бьемся, молчат. Разрешите вызвать Москву?
— Подождите, Борис Александрович. Попробуйте еще с полчаса вызывать штаб фронта.
Но и через полчаса мы ничего не добились. Принесли срочные донесения. Ждать было нельзя.
На первый же позывной, посланный в эфир старшиной-радистом 1-го класса Росляковым, мы получили ответ с радиоузла Генерального штаба. В течение последующих двух-трех суток связь с фронтом поддерживалась через Москву. И не было случая, чтобы радиостанция Генштаба заставила себя ждать.
В один из этих дней начальник штаба генерал Лукьянченко даже поинтересовался:
— Почему мы так быстро стали получать ответы штаба фронта на наши запросы, товарищ Агафонов?
— Да, видимо, потому, товарищ генерал, что связь с фронтом держим через Москву.
— Вот как! — удивился Лукьянченко и не без иронии спросил: — А что, через Москву поближе?
— Радиостанции фронта на наши вызовы не реагируют. Вот мы и вынуждены воспользоваться помощью Москвы.
— Здорово, хотя и странно. Ну что ж, продолжайте в том же духе.
К утру 10 марта 35-й гвардейский стрелковый корпус овладел местечком Христинивка, Шукайводами и железнодорожной станцией Христинивка, а 180-я стрелковая дивизия во взаимодействии с частями 2-й танковой и 52-й общевойсковой армий ворвалась в город Умань. На этом направлении наши войска продвинулись на юго-запад до 65 километров.
Понеся большие потери в районе Умани и Христинивки, гитлеровцы стали поспешно отходить. Чтобы не дать противнику организовать оборону на правом берегу Южного Буга, стрелковые соединения и танковые части начали стремительное преследование. Танковые армии уже к 13 марта должны были захватить переправы через Южный Буг и создать плацдармы на правом берегу.
К этому времени тыловые части и учреждения отстали так сильно, что были не в состоянии обеспечивать войска ни боеприпасами, ни продовольствием, ни обмундированием. Даже в период подготовки операции автотранспорт почти бездействовал — весенняя распутица сделала дороги непроходимыми. И не случайно бывший начальник штаба 2-го Украинского фронта, ныне Маршал Советского Союза М. В. Захаров, анализируя Уманскую наступательную операцию, вспоминает: «Основная тяжесть подвоза грузов непосредственно в войска легла на гужевой транспорт, вьючные подразделения; во многих случаях грузы (особенно снаряды и мины) переносились на руках. Только в одной 27-й армии на подвозе грузов в войска в период подготовки операции работало до 400 пароконных повозок местных жителей, 150 вьючных лошадей и 5400 человек, подносивших грузы вручную».
Еще в период подготовки к наступлению части получили пополнение, а вот обмундировать людей не успели.
Как известно, с февраля 1943 года в нашей армии были введены новые знаки различия — погоны. Многие жители оккупированных районов не знали об этом и принимали советских бойцов и командиров за иностранных волонтеров. Наши новобранцы на волонтеров походили очень мало. Зато когда они врывались в населенные пункты, жители радостно кричали: «Да здравствуют партизаны!» И нередко задавали вопрос: когда их освободит насовсем Красная Армия…
Эта операция была, пожалуй, одной из самых дерзких: армия стремительно наступала, а тылы ее оставались далеко позади. И тут, конечно, неоценимую помощь оказали нам местные жители. Они радушно встречали своих освободителей, старались получше накормить, устроить на ночлег. В то время у нас пошло в ход шутливое выражение «бабушкин аттестат». Фактически мы были отрезаны от своих баз снабжения так же, как и в распутицу под Старой Руссой, но там нас окружали гиблые болота, а здесь были рядом родные советские люди, которые с радостью делились с нами последним куском.
Хуже обстояло с боевой техникой, здесь уже никто помочь не мог. Линейные армейские части связи оставили свой автотранспорт еще в Бужанке. Правда, они имели конский состав и смогли взять с собой весь запас полевого кабеля и часть шестовых средств. А вот для перевозки аппаратуры узла связи не нашлось и повозок. По моей просьбе командование армии выделило в помощь связистам для переноски имущества две роты из запасного стрелкового полка. Ответственным за транспортировку имущества я назначил подполковника Дудыкина.
Таким небывалым способом от Бужанки до Тырново (на расстояние более 300 километров!) было перенесено: несколько аккумуляторов на 120 вольт, зарядный агрегат, два аппарата СТ-35, два аппарата Морзе, три телефонных коммутатора (на 10 и 20 номеров), два швейцарских коммутатора, 15 километров полевого телефонного кабеля и кое-какое другое имущество.
Несмотря на это, мы делали все, чтобы поддерживать в ходе операции надежную связь.
В первые два дня после прорыва обороны противника со всеми подчиненными соединениями поддерживалась устойчивая проводная связь. Но войска все увеличивали темпы наступления. Смена районов КП корпусов так участилась, что проводную связь с ними едва успевали организовывать по рубежам.
Наиболее устойчиво работала проводная связь со штабом 35-го гвардейского стрелкового корпуса, ось перемещения которого совпадала с осью перемещения армии. Тяжелые условия создались для начальника направления связи к 33-му стрелковому корпусу при подходе к Южному Бугу. Постоянные линии в полосе корпуса отсутствовали. Сильно растянув свои средства по пути движения корпуса, ННС не мог их своевременно подтянуть из-за бездорожья, и проводная связь с корпусом на некоторое время была потеряна. Только ценою неимоверных усилий всего личного состава роты капитан Фомин сумел обеспечить связь с корпусом при форсировании Южного Буга. Когда останавливались обессилевшие лошади, Фомин со своими бойцами разгружал повозки и перетаскивал имущество на себе. Отличный специалист и смелый командир, Евгений Петрович Фомин получил боевое крещение под Старой Руссой. Тогда он был заместителем командира роты. Под Ахтыркой его рота, находясь в резерве, отбила атаку танков и пехоты противника, прорвавшего нашу оборону. И не случайно я был спокоен за участок, где действовала рота капитана Фомина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: