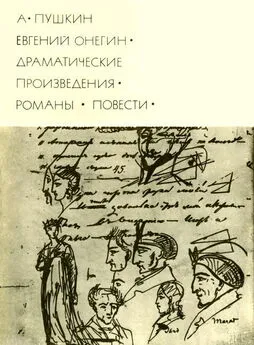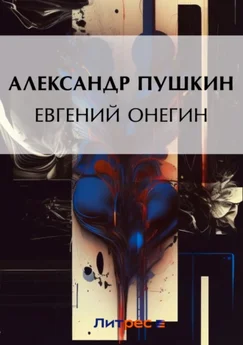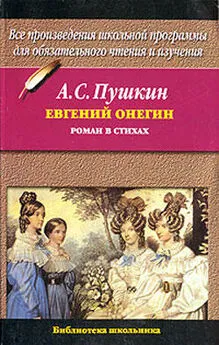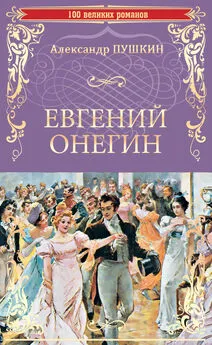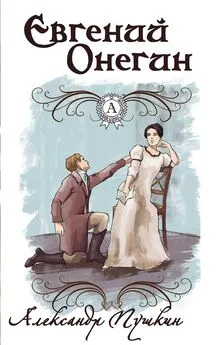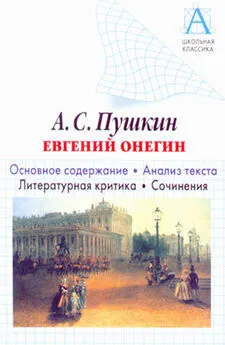Александр Пушкин - Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести
- Название:Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пушкин - Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести краткое содержание
Вступительная статья и примечания Д. Благого.
Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Термин «лишний человек» получил широкое употребление лет двадцать спустя после пушкинского романа, с появлением «Дневника лишнего человека» Тургенева (1850). Но слово «лишний» в применении к Онегину находим уже у Пушкина. Онегин на петербургском рауте «как нечто лишнее стоит» (вариант беловой рукописи VII строфы восьмой главы). Действительно, образ Онегина — первый в той обширной галерее «лишних людей», которая так обильно представлена в последующей русской литературе. Генетически возводя литературный тип «лишнего человека» к образу Онегина, Герцен точно определил социально-историческую обстановку, в которой складывался этот характер: «Молодой человек не находит ни малейшего живого интереса в этом мире низкопоклонства и мелкого честолюбия. И, однако, именно в этом обществе он осужден жить, ибо народ еще более далек от него… между ним и народом ничего нет общего».
Разобщенность между носителями передового сознания, передовых освободительных идей и народом — трагическая черта всего дворянского периода русского революционного движения. В этом причина декабрьской катастрофы, поставившей, по словам Герцена, перед всеми мыслящими людьми «великий вопрос» о преодолении этого разрыва. В «Евгении Онегине», в том виде, как он был оформлен автором для печати, не только нет ответа на этот вопрос, но нет и его прямой постановки. Нет в романе и непосредственно политической тематики. Вместе с тем даже и в этом виде он весь овеян дыханием современности. В трагических исходах судеб двух типичных представителей русской молодежи XIX века, не удовлетворенных своей жизнью и далеких от народа, явно сквозит общая проблематика эпохи, дает себя чувствовать общественная атмосфера периода декабрьского восстания.
Особенно остро и живо современники ощущали злободневную знаменательность гибели романтика Ленского. Убийством Онегиным Ленского, льдом — пламени, были, — считал Герцен, — уничтожены «грезы юности» — поры «надежды, чистоты, неведения»; «Ленский — последний крик совести Онегина, ибо это он сам, это его юношеский идеал. Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукой Онегина — Онегина, который любил его и, целясь в него, не хотел ранить. Пушкин сам испугался этого трагического конца; он спешит утешить читателя, рисуя ему пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта». Однако Герцен не знал, что Пушкин, говоря перед этим о возможности для Ленского и другого, противоположного пути — «славы» и «добра», намечал еще один столь же выразительный, сколь сугубо конкретно-исторический его вариант: Ленский мог «быть повешен, как Рылеев» (слова из пропущенной и обозначенной в тексте романа только цифрой строфы, которая вследствие именно этих слов, конечно, не могла бы появиться в печати). Как видим, здесь уже открывается прямой просвет в тему декабризма. И этот просвет не случаен. В окончательном тексте лишь глухо упомянуто о политической настроенности Ленского — его «вольнолюбивых мечтах». В рукописях Пушкина этот мотив развит гораздо подробнее. Но и независимо от этих вариантов образ Ленского вызывал у некоторых современников характерные ассоциации: настойчиво указывали в качестве его прототипа на поэта-декабриста Кюхельбекера; «другим Ленским», «полным мечтаний и идей 1825 года» и «сломленным в свои двадцать два года грубыми руками русской действительности» называл Герцен поэта-любомудра Дмитрия Веневитинова.
Еще более интересна попытка постановки темы декабризма в связи с образом Онегина. Развитие фабулы допускало это. Роман не без оснований представлялся многим неоконченным; «Вы говорите мне: он жив и не женат. // Итак, еще роман не кончен», — не без иронии писал Пушкин в 1835 году. Но и помимо отсутствия традиционной развязки поэт действительно, покинув своего героя «в минуту злую для него», не досказал даже того, чем эта минута — неизбежное объяснение с мужем Татьяны, заставшим Онегина в неположенный час в комнате жены, — закончилась. Между тем душевное состояние героя на протяжении последней главы романа существенно изменилось. Любовь к Татьяне произвела в нем благодетельный переворот, вернула «чувствительность» его сердцу, омолодила преждевременно постаревшую душу, наполнила его пустое и праздное существование содержанием и смыслом. Влюбленный, «как дитя», Онегин даже «чуть… не сделался поэтом», подобно Ленскому. Последние слова Татьяны, отнявшие у Онегина этот смысл, погасившие всякую надежду на личное счастье, потрясли все его существо.
За год до окончания романа, в 1829 году, во время поездки Пушкина в Закавказье, на театр военных действий, и встреч там с некоторыми из сосланных участников декабристского движения, поэт рассказывал, что по его «первоначальному замыслу» Онегин «должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Об устойчивости этого замысла свидетельствует то, что год спустя Пушкин снова попытался было к нему вернуться. Уже после того, как он закончил свой роман, «по крайней мере, — как он сам предупреждал читателей, — для печати», в составе девяти глав и подвел под этим черту, он, видимо, почти сразу же принялся за новую, десятую главу, непосредственно посвященную теме декабризма. Из этой главы, сожженной Пушкиным в день очередной лицейской годовщины, 19 октября 1830 года, до нас дошли лишь зашифрованные поэтом фрагменты первых семнадцати строф, дающих описание исторических событий и деятельности тайных обществ, предшествовавшей восстанию.
Поскольку замысел Пушкина не был осуществлен, Онегин вошел в сознание читателей и критики, в историю русской литературы и русской общественной мысли таким, как он показан в романе — «лишним человеком», «умной ненужностью» (термин Герцена). И именно это способствовало широчайшему обобщающему значению данного образа, делало его типичным не только для 20-х годов, но и для всего дворянского периода русской революционности. «Образ Онегина настолько национален, — писал много позже, в начале 50-х годов Герцен, — что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом». Но уже одно намерение автора сделать Онегина декабристом особенно наглядно показывает, какой жгучей злободневностью был проникнут замысел пушкинского стихотворного романа, какими крепкими нитями был он связан с важнейшими событиями и актуальнейшими общественно-политическими вопросами современности.
Именно это давало право Белинскому назвать пушкинский роман в стихах не только «в высшей степени народным произведением», но и «актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!» Действительно, в строфах пушкинского романа русское общество и впервые увидело, и, что еще важнее, впервые поняло себя и причины своих «недугов».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: