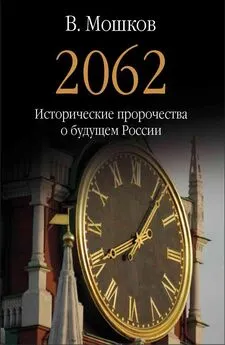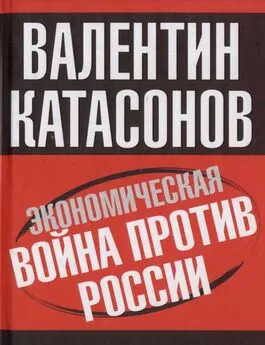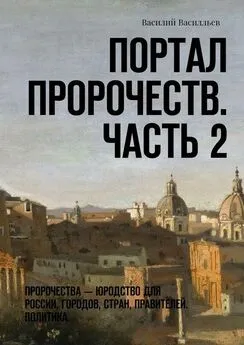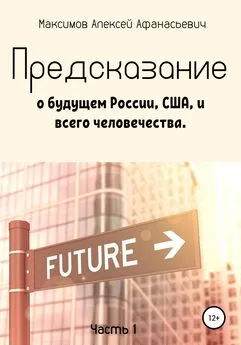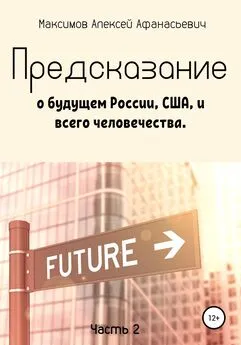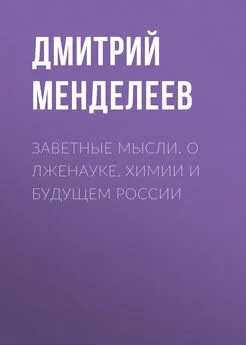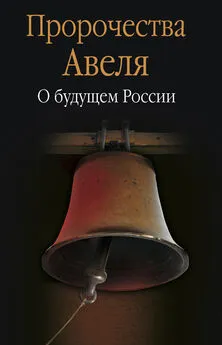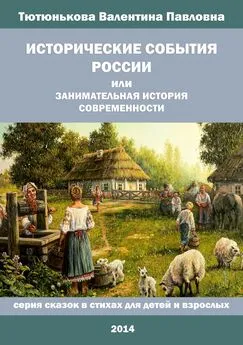Валентин Мошков - 2062 Исторические пророчества о будущем России
- Название:2062 Исторические пророчества о будущем России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТДЛ
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-516-00088-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Мошков - 2062 Исторические пророчества о будущем России краткое содержание
Что ждет Россию впереди? Читайте удивительный прогноз в предлагаемом издании.
2062 Исторические пророчества о будущем России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Германии различие городских жителей от деревенских, по Аммону, сказывается не только в том, что горожане длинноголовее сельчан, но, кроме того, они ростом больше и между ними более блондинов и голубоглазых (15).
Высшие сословия в Европе сверх того отличаются от низших еще тем, что развиваются физически и созревают в половом отношении раньше низших. Ломборозо указывает, что максимальное развитие роста у «богатых» девушек бывает в возрасте двенадцати-четырнадцати лет, а у «бедных» в тринадцать-пятнадцать лет (16). По исследованиям Аммона, немецкое городское население обнаруживает несколько более ускоренное физическое развитие, чем сельское. Например, волосы усов и бороды пробиваются у них ранее. В общем, физическое развитие новобранцев горожан, наблюдавшихся Аммоном, года на полтора опереживает деревенских жителей. То же самое различие сословий, но еще в более сильной степени замечено и у нас в России. По наблюдениям доктора Бензенгера, в Москве период половой зрелости наступает раньше всего у дворянок — в возрасте от девяти до двенадцати лет, потом у женщин духовенства и купеческого сословия — от тринадцати до шестнадцати лет и, наконец, позже всего у крестьянок — от семнадцати до двадцати двух лет. К подобному же выводу пришел и Вебер в Петербурге.
Это явление наблюдалось, кроме того, в Париже, в Вене, в Страсбурге, в Эльзасе и в Баварии. Оно было известно очень давно, так как о нем писали: Гипполитус Гваринониус в 1610 г., Марк д’Эспин, талмудические врачи и др. (17).
Словом, между высшими сословиями Европы и низшими наблюдается такое большое антропологическое различие, что Деникер находит возможным допустить, преобладание в среде европейской аристократии другой расы, чем в рабочем сословии (18)
Нам, русским, по собственному опыту, хорошо известны особенности, отличающие простонародье от интеллигенции. У нас для этого существуют даже особые термины: «вульгарный» и «простонародный», которыми характеризуются не только внешний вид человека и черты его лица, но походка, манеры и даже характер и поведение.
Так как в лице современного крестьянина перед нами продукт очень долгого и сложного исторического процесса, то естественно, что мы не можем ожидать среди него однообразия. Встречаются и одиночки и целые деревни, в которых внешние отличия простонародья от интеллигенции очень слабы, мало заметны. Но зато есть другие местности, в которых они резки и невольно бросаются в глаза. Замечает такие отличия и сам народ или, лучше сказать, его верхи, и называют представителей низшего типа «серыми мужиками, сиволапыми, вахлаками» и т. и.
Итак, тип русского крестьянина-вахлака нам достаточно известен, чтобы стоило подбирать для этого литературные свидетельства. А потому только для напоминания мы приведем здесь несколько характеристик его, сделанных различными лицами, в разных уголках нашего отечества.
Вот, например, как польский этнограф, Оскар Кольберг, описывает русских крестьян, живущих над Бугом, в Седлецкой губернии: «Кожа их обыкновенно бледная и смуглая, фигура сгорбленная и довольно небрежная. Женщины также некрасивы; по временам однако блеснет между ними, неведомо откуда, смугловатая, пригожая девушка с красивыми чертами лица и выразительными глазами и кажется как бы цветком из иной страны, по слепой случайности выросшим среди этих невзрачных полевых трав» (19). А вот отзыв о наружности белорусов польской писательницы Элизы Оржешко: «Движения тела у них даже в молодости тяжелые и ленные, черты лица апатичные, взгляд чаще понурый, чем веселый и расторопный, речь медленная, колеблющаяся, спутанная» (20). О наружности великорусского крестьянина из глухих местностей Вологодской губернии пишут: «Роста жители большей частью среднего, смуглые лицом и телом, крепкого сложения, как мужчины, так и женщины, но те и другие некрасивы собой и самый вид их суровый и голос грубый» (21).
Примечания: (1) — БУ, II. 276, 294; АВ, III. 95; М, I. 76. (2) — БП. 300 и след. (3) — БЖ. 405. (4) — БО, II. 89. (5) — Ю, II. 20. (6) — ВБ. 78; бб. 45. (7) — БО, II. 97, 103, 104, 107, 116 и 117. (8) — з. 31. (9) — AM. 433 и 434. (10) — БУ, II. 276. (11) — аа. 41. (12) — Ю, И. 20. (13) — БО, II. 132. (14) — П, II. 538 и 539. (15)-AM. 419. (16) — АХ. 15 и 37. (17) — Б1, I. 239, 240 и 243. (18) — аа. 42. (19) — AI Chelmskie. l6*akow, 1890. 15; (20) — ВФ. 1888, II. 125. (21) — ВГ, II. 4.
XXII. Характер и ум низших классов
Относительно характера низших классов в западноевропейской литературе вовсе не редкость встретить параллель, проводимую между ними и дикарями. Чемберлен в своем сочинении «The child» цитирует по этому поводу слова французского этнографа Мануврии, наблюдавшего в парижском Саду Акклиматизации гамбисов Гвианы. По словам этого последнего, гамбисы напоминают французских крестьян, которые жили замкнутой жизнью где-нибудь в горах, где они вели простую монотонную жизнь, лишенную всякой цивилизации. Если бы, говорит он, поселить гамбисов между европейцами, то они скоро бы стали на один уровень с невежественными французскими крестьянами, живущими в больших городах (1).
«Без сомнения, — говорит Шарль Летурно, — в цивилизованных странах существует высшая культура, совершенно незнакомая первобытным людям и даже недоступная их пониманию, но если бы мы потрудились внимательно наблюдать европейцев, то нашли бы между нами многих, стоящих по-своему развитию почти так же низко, как чернокожие центральной Африки, также неспособных к умственному вниманию и ко всякой работе, требующей отвлеченного мышления, также погруженных в дикий анимизм. Готтентоты, впервые увидев европейские суда и экипажи, приняли их за живые существа; но ведь многие из наших бретонских крестьян подумали то же о локомотиве, когда первые поезда железной дороги проникли в их провинцию. Негры, в особенности низшие, напиваются до полной потери сознания, но ведь то же самое бывает и с малоразвитыми европейцами. Многие из наших крестьян считают и производят арифметические вычисления не лучше низших негров и вообще первобытных людей. Что касается языка, то здесь нет также особенной разницы. Без сомнения, лексикон ученого содержит тысячи слов, иногда даже на нескольких языках, но уже давно констатирован факт, что необразованному крестьянину вполне достаточно нескольких сот выражений» (2).
Ляпуж у французского дворянства насчитывает наибольшее количество великих имен, тогда как французское простонародье, по его словам, сыграло второстепенную роль в прокладывании новых умственных путей. Если рассчитывать умственную продуктивность различных сословий французского общества, то один дворянин равнозначен двадцати мещанам или двумстам простолюдинам.
А вот как польские этнографы характеризуют низший тип своего простонародья:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: