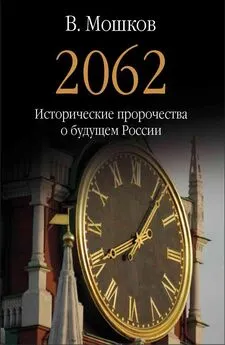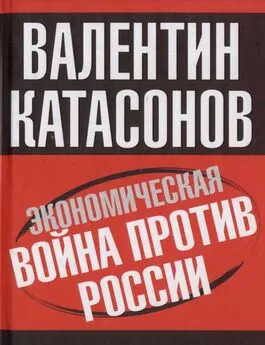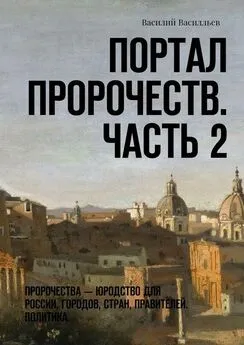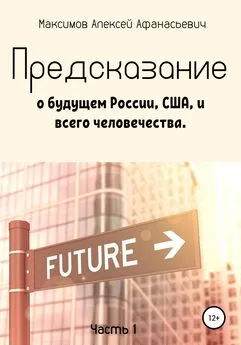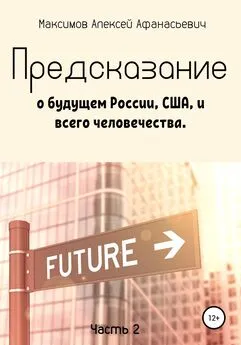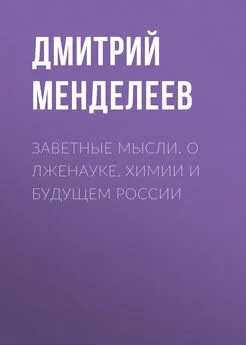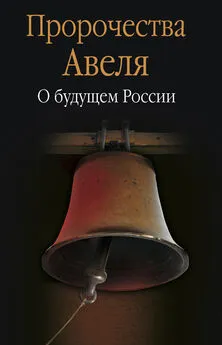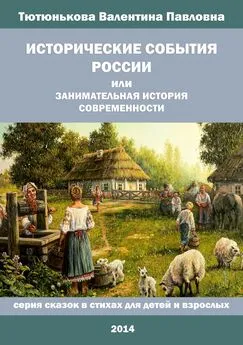Валентин Мошков - 2062 Исторические пророчества о будущем России
- Название:2062 Исторические пророчества о будущем России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТДЛ
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-516-00088-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Мошков - 2062 Исторические пророчества о будущем России краткое содержание
Что ждет Россию впереди? Читайте удивительный прогноз в предлагаемом издании.
2062 Исторические пророчества о будущем России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несомненно, он никогда ничего не украл, никого не продал и даже никому не нагрубил, но все это были качества отрицательные. Поручить ему все-таки ничего было нельзя, потому что в таком случае потребовалось бы войти в такие подробности, предугадать которые заранее совсем невозможно. Если же всего до последней мелочи ему вперед не пересказать, то он при первой же непредвиденности, или совсем станет в тупик, или так напутает, что и мудрецу распутать не под силу. Ничего от себя придумать он был не в состоянии, ни малейшей сообразительностью не обладал».
Если бы Конона перенести куда-нибудь в Азию и поместить между тамошних дикарей, то, кроме более светлого цвета кожи, он почти ничем бы от них не отличался. Вообще безжизненный, апатичный характер некоторой части нашего великорусского и в особенности польского простонародья сильно сближает их с представителями желтой расы, судя по тому, что передают путешественники о монгольских племенах.
Пржевальский, например, изображает тангут (в средней Азии), как «людей мрачного характера, никогда не смеющихся и не улыбающихся, и дети которых никогда не играют и не веселятся» (12).
О Куку — норских монголах — путешественники говорят, что «они имеют выражение лица крайне тупое, глаза тусклые, бессмысленные, характер мрачный, меланхолический. В них нет ни энергии, ни желания, а какое-то скотское равнодушие ко всему на свете, за исключением еды. Сам Куку — норский ван, человек довольно умный, рассказывая нам о своих подданных, откровенно говорил, что они только по образу походят на людей, во всем же остальном решительные скоты» (13).
Об орочах или тазах (в Уссурийском крае) генерал Пржевальский пишет: «Появление неизвестного человека производит на этих людей впечатление не большее, чем на их собак. Какая малая разница между этим человеком и его собакою. Он (ороч) забывает всякие человеческие стремления и, как животное, заботится только о насыщении желудка. Поест мяса или рыбы, а затем идет на охоту или спать, пока голод не принудит его снова встать, развести огонь в дымном смрадном шалаше и вновь готовить себе пищу. Так проводит этот человек целую свою жизнь: сегодня для него все равно, что вчера, завтра — то же, что сегодня. Ни чувства, ни желания, ни радости, ни надежды, словом, ничто духовное для него не существует. На деле убедился я теперь в истине того, что гораздо большая пропасть лежит между цивилизованным и диким человеком, нежели между этим последним и любым из высших животных» (14).
Что меланхолия свойственна и другим народам монгольской расы, видно, между прочим, из того, что Линней в своей классификации человечества «азиат — цам» приписывает характер «меланхолический» (15). Тогда как черная раса, по его определению, имеет характер «холерический» или «флегматический» (16). Впрочем, угрюмость и молчаливость кроме монголов приписывается и родственным с ними краснокожим Америки: «Каждый, — говорит Дарвин, — кто имел случай для сравнения, был вероятно поражен контрастом между молчаливыми и даже угрюмыми туземцами южной Америки и добродушными, разговорчивыми неграми (17).
Здесь кстати заметить, что характер, по-видимому, находится в соответствии с формой черепа. Тогда как короткоголовый монгольский рост приписывается меланхолическому характеру, о длинноголовых неграх мы находим отзывы совершенно противоположные. «Негры, — по словам французского путешественника Гавеляка, — как наши дети, неутомимые говоруны; можно сказать, что мысли их бегут; все служит им поводом к бесконечным разговорам и болтовне» (18). А известный путешественник по Африке, Ливингстон, говорит, что «негры не могут сдерживать смех. Какое бы ничтожное обстоятельство ни случилось на пути, если, например, ветка заденет за груз носильщика или он что-нибудь уронит, все, видящие это, испускают взрыв хохота; если кто-нибудь усталый сядет в стороне, каждый приветствует его таким же смехом» (19).
Итак, данные, приведенные нами в двух последних главах, достаточно убеждают, что физические и другие отличия между крайними типами одного и того же народа так же велики, как между высшими и низшими расами человечества, а низшие классы по своей характеристике, несомненно, приближаются к дикарям.
Собравши в одно целое все признаки, отличающие низший класс от высшего, мы убедились бы, что признаки эти принадлежат питекантропу Если же мы видим у ютландского простонародья высокий рост, а у итальянского и испанского — длинную голову, то это явление не должно нас смущать, так как оно вполне аналогично высокому росту патагонцев и длинноголовию негров.
Некоторые из низших рас, как видно, унаследовали от своих белых предков то ту, то другую из черт высшей расы. И черты эти удержались у них совершенно так же, как удерживается какая-нибудь фамильная черта во многих поколениях одного и того же семейства. Но так как во всем остальном эти расы приближаются к питекантропу, то и становится очевидным, что признак, о котором мы говорим, не играет в их организме никакой другой роли. Никто, конечно, не станет отрицать, что существуют черты фамильные, сословные, племенные и расовые, которые придают особый тип каждой такой группе, но это не мешает в то же время различать между ними группы высшие и низшие.
Несомненно, следовательно, что внутри каждого народа кроме процесса, постоянно смешивающего все признаки отдельных лиц и приводящего всех к одному уровню, действует еще какой-то другой, обратный первому, разъединяющий черты белого дилювиального человека от черт питекантропа. Не будь его, наша мечта о бессословности, о равенстве и братстве давно бы уже осуществилась.
Что это за процесс, мы узнаем ниже.
Примечания: (1) — BE. 293. (2) — АС. 87. (3) — AI, Ser. XVI, Lubelskie cz. I. 21 и 30; ВФ. 1888, II. 126; Be, X. 189; Ibid. XIV. 17, 147; ГВ. 229. (4) — ВФ. 1888, II. 126. (5) — BI. 510. (6) — Л. 192. (6а) — вк. 20. (7) — Ъ, I. 706. (8) — АА, I. 503. (9) — АА, I. 474. (10) — BI. 510. (11) — Глава 21. (12) — БР, II. 566. (13) — БИ, I. 285. (14) — ВХ. 1870, VI. 569. (15) — БО, II. 296. (16) — М, I. 113. (17) — Ю, II. 119. (18) — АС. 58. (19) — БР, II. 15.
XXVIII. Происхождение царской власти
Чтобы составить себе понятие об этом очень интересном вопросе, у нас нет другого средства, кроме знакомства с современным положением в государствах царей, королей, вождей, старшин и других владетельных особ. Но в цивилизованных странах взгляды на власть столько раз менялись, что трудно разобрать, что в них есть нового, что принадлежит седой старине. По этой причине мы будем гораздо ближе к источнику, если рассмотрим положение царской власти у народов диких и варварских, у которых во всех учреждениях гораздо больше остатков глубокой старины.
Властители стран и народов нецивилизованных или просто признаются божествами при жизни, или делаются таковыми после смерти. Все пребывание начальников на земле считается лишь преходящим земным эпизодом жизни этих «божественно рожденных». Они приходят с неба, судьба задерживает их здесь, и только в виде душ они снова возвращаются в свое небесное жилище. Нити их существования связаны высоко над землей. Король Идага (в Африке) говорил англичанам: «Бог создал меня по своему подобию, я равен Богу и он сделал меня королем». Если же другие короли в настоящее время и не считаются богами, то власть их все-таки выражается во множестве таких церемоний, которые приравнивают их к богам. Иногда они считаются «сыновьями неба» и власть свою «получают от неба».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: