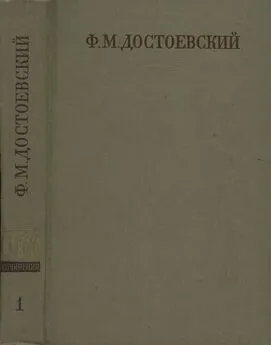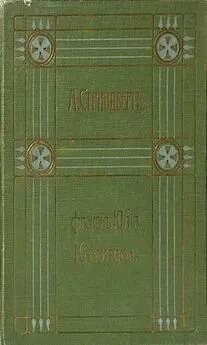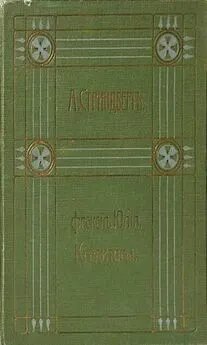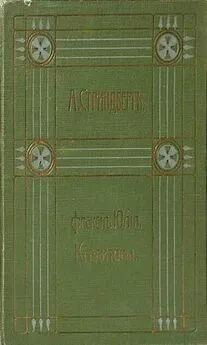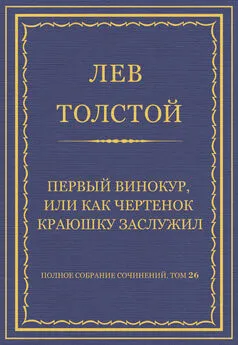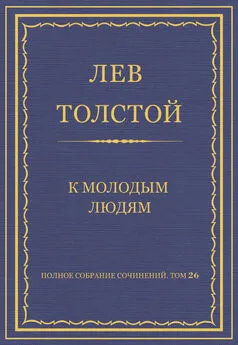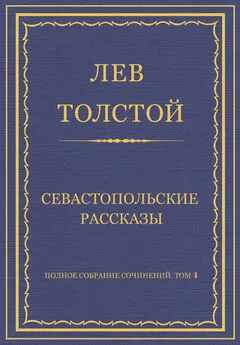Фёдор Достоевский - Полное собрание сочинений. Том первый. Бедные люди. Повести и рассказы (1846-1847)
- Название:Полное собрание сочинений. Том первый. Бедные люди. Повести и рассказы (1846-1847)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1972
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фёдор Достоевский - Полное собрание сочинений. Том первый. Бедные люди. Повести и рассказы (1846-1847) краткое содержание
Полное собрание сочинений. Том первый. Бедные люди. Повести и рассказы (1846-1847) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Реакционная и славянофильская критика и журналистика 1840-х годов, враждебная Белинскому и «натуральной школе», дали резко отрицательную оценку «Двойнику».
«Нельзя представить себе ничего бесцветнее, однообразнее, скучнее длинного, бесконечно растянутого, смертельно утомительного рассказа о незанимательных „приключениях господина Голядкина“, который с самого начала и до конца повести является помешанным, беспрестанно делает разные промахи и глупости, не смешные и не трогательные, несмотря на все усилия автора представить их таковыми, в притязаниях какого-то „глубокого“, неудобопонятного юмора. Нет конца многословию, тяжелому, досадному, надоедающему, повторениям, перифразам одной и той же мысли, одних и тех же слов, очень понравившихся автору, — писала о «Двойнике» «Северная пчела». — Искренне сожалеем о молодом человеке, так ложно понимающем искусство и, очевидно, сбитом с толку литературною „котернею“, из видов своих выдающею его за гения» (Я. Я. Я. <���Л. В. Брант>; СП, 1846, 28 февраля, № 47, стр. 187; ср. позднейший отзыв Ф. В. Булгарина о «Двойнике» как о «весьма слабой» повести — СП, 1846, 9 марта, № 55, стр. 218).
Отрицательно отнесся к «Двойнику» и С. П. Шевырев в «Москвитянине»: «…мы не понимаем, — писал он, — как автор „Бедных людей“, повести все-таки замечательной, мог написать „Двойника“ <���…>. Это грех против художественной совести, без которой не может быть истинного дарования. Вначале тут беспрерывно кланяешься знакомым из Гоголя: то Чичикову, то Носу, то Петрушке, то индейскому петуху в виде самовара, то Селифану; но чтение всей повести, если вы захотите непременно до конца дочитать ее, произведет на вас действие самого неприятного и скучного кошмара после жирного ужина». Признавая, что в повести всё же обнаруживаются «мысль» о власти над русским человеком «амбиции», происхождение которой Шевырев, следуя историческим воззрениям славянофилов, стремился связать с петровской табелью о рангах, и «талант наблюдателя», Шевырев далее писал: «Но беда таланту, если он свою художественную совесть привяжет к срочным листам журнала, и типографские станки будут из него вытягивать повести. Тогда рождаться могут одни кошмары, а не поэтические создания. Г-н Достоевский поймет нас, если дарование его истинно» ( М, 1846, № 2, стр. 172–174; ценз. разр. — 3 марта 1846 г.).
Шевыреву вторил в том же журнале А. Е. Студитский, восклицавший по поводу «Двойника»: «…бедный Гоголь!» — и так излагавший его сюжет: «Дело всё в том, что был-жил г. Голядкин, чиновник министерства, никогда не бывалый не только в действительности, но и в возможности — даже в воображении, как бы бизарно и дементивно оно ни было» ( М, 1846, № 3, стр. 194; ценз. разр. — 19 марта 1846 г.).
Наиболее пространную оценку «Двойника» со славянофильских позиций дал К. С. Аксаков: «В этой повести, — писал он, — видим мы уже не влияние Гоголя, а подражание ему <���…>. В ней г. Достоевский постоянно передразнивает Гоголя, подражает часто до такой степени, что это выходит уже не подражание, а заимствование». Завершая свой разбор повести пародией на стиль «Двойника» («Приемы эти схватить нетрудно; приемы-то эти вовсе нетрудно схватить: оно вовсе нетрудно и незатруднительно схватить приемы-то эти…» и т. д.), в которой он утверждал, что у автора нет «поэтического таланта», К. С. Аксаков отмечал: «Говоря о повести г. Достоевского „Двойник“, можно повторить слова, которые часто повторяет у него г. Голядкин: „Эх, плохо, плохо! Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше как плоховато! Эх, дельце-то наше чего прихватило!“ Да, точно, нехорошо и нехорошего прихватило. Если бы не первая повесть г. Достоевского, мы никак не имели бы терпения прочесть его вторую; но мы сделали это по обязанности, желая что-нибудь найти в его повести, и ничего не нашли; она так скучна, что много раз оставляли мы книгу, и принимались снова, и насилу-насилу прочли ее. Конечно, судя по первой повести, мы никак не ожидали, чтоб была такова вторая. Где талант, который видели мы в первой повести? Или его стало только на одну? Недолго польстил надеждою г. Достоевский; скоро обнаружил он себя» (см.: Имярек< К. Аксаков>. Петербургский сборник, изданный Некрасовым. МСб, 1847, Критика, стр. 33–36).
Идейно и эстетически неприемлемым «Двойник» оказался и для А. А. Григорьева. Подойдя к оценке повести с позиций идеалистической, романтической эстетики, Григорьев истолковал ее как наиболее последовательное и крайнее утверждение в искусстве современной «мелочной личности» и ее «дурных» претензий, в чем в 1840-е годы он видел основной порок всей «натуральной школы», противопоставляя ее позиции с этой точки зрения гоголевскому нравственному осуждению «ничтожного героя» (см. выше, стр. 475). Наметив впервые указанную оценку «Двойника» еще в 1846 г., Григорьев развил ее дальше в ряде своих последующих печатных отзывов об этой повести ( МГЛ, 1847, 17 марта, № 62, стр. 250; 17 июня, № 131, стр. 524). «„Двойник“, — отмечал Григорьев, — по грешному разумению нашему, сочинение патологическое, терапевтическое, но нисколько не литературное: это история сумасшествия, разанализированного, правда, до крайности, но тем не менее отвратительного, как труп. Больше еще: по прочтении „Двойника“ мы невольно подумали, что если автор пойдет дальше по этому пути, то ему суждено играть в нашей литературе ту роль, какую Гофман играет в немецкой <���…> г. Достоевский до того углубился в анализ чиновнической жизни, что скучная, нагая действительность начинает уже принимать для него форму бреда, близкого к сумасшествию. Увы! поневоле вспомнишь мысль гоголевского „Портрета“!..» (см.: < А. Григорьев>. Петербургский сборник. ФВ, 1846, № 9, отд. V, стр. 30). «…Вы вчитываетесь в это чудовищное создание, уничтожаетесь, мелеете, сливаетесь с его безмерно ничтожным героем — и грустно становится вам быть человеком, и вы убеждаетесь, как будто, что человек только таков и может быть. Какая же тут вина, ответственность, какой суд над собою? Жил червем и умер червем, и дело копчено: „Une foi mort, on est bien mort“», — писал Григорьев Гоголю 17 ноября 1848 г. (см.: Григорьев, вып. 8, стр. 26–27).
Из других отрицательных суждений о «Двойнике» можно отметить еще краткий отзыв в «Журнале Министерства народного просвещения»: «Что касается повести г. Достоевского „Двойник“ («От<���ечественные> зап<���пски>», № 2), то желали бы мы не встречать более подобных злоупотреблений таланта и трудов. Нельзя видеть без удивления, как в этой повести разговор действующих лиц зашел за все границы приличия и обратился в какую-то смесь ругательств, нетерпимых для круга образованных читателей» (см.: Обозрение русских газет и журналов за первое трехмесячие 1846 года. ЖМНП, 1846, ч. LI, июль, отд. VI, стр. 104).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: