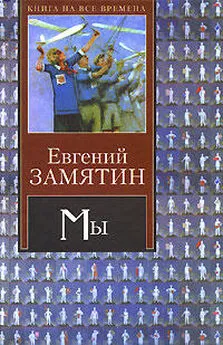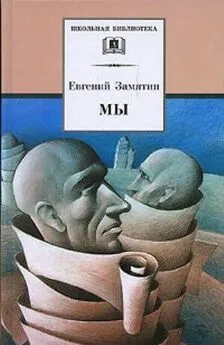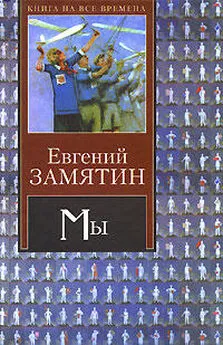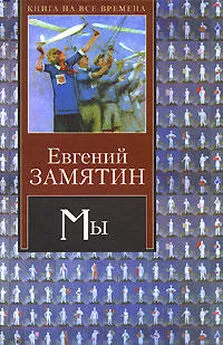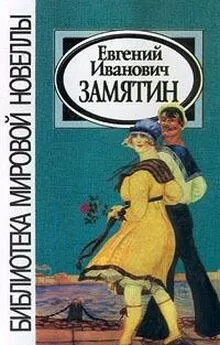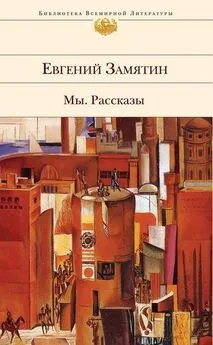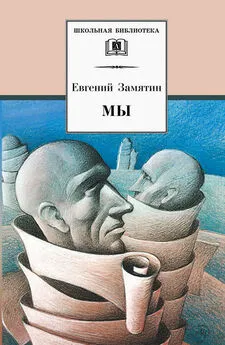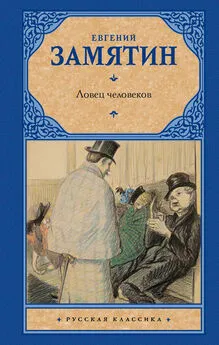Евгений Замятин - Избранное [сборник]
- Название:Избранное [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Замятин - Избранное [сборник] краткое содержание
Оформление художника А. Т. Яковлева; внутренние иллюстрации художника О. К. Вуколова.
Издание 1989 года.
[Аннотация верстальщика файла]
Избранное [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Приходилось, скрываясь от полиции, менять адреса жительства и одновременно корпеть над ватманом, изучать судостроение, корабельную архитектуру. Незаурядное инженерное дарование Замятина, которое раскроется наиболее полно во время командировки в Англию, пока что воплощается в специальные статьи, появляющиеся в научно-технических петербургских журналах. Одновременно он чувствует все более настойчивое желание писательства, хотя литературный дебют (1908 — в год окончания Политехнического института) и оказался неудачным. Удача пришла позднее — с «Уездным».
Повесть была опубликована в петербургском журнале «Заветы», который редактировал критик Р. Иванов-Разумник. В «Заветах» печаталась и другая значительная вещь — «На куличках». В редакции журнала Замятин встретил А. М. Ремизова и М. М. Пришвина. С Пришвиным сближало землячество, тяга к российскому первородству, природе, ее стихийным силам. С Ремизовым — стремление к языкотворчеству, к сказовой манере, поиски новой метафорической стихии. Правда, Ремизов уходил дальше — в допетровский язык, в средневековую заумь. Объединял их и острый интерес к русской «глубинке», провинции, мещанству с одновременной попыткой подняться над бытом с помощью символически обобщенных образов. Именно с таким прицелом писал Ремизов свои вещи — «Пруд», «Крестовые сестры» и т. д.
Дальними учителями были хоть и безусловные, но круто переосмысленные Гоголь, Достоевский, Лесков, Салтыков-Щедрин. В современной же русской литературе Замятину оказались ближе не реалисты — М. Горький, И. Бунин, А. Куприн, а писатели с уклоном в символизм и «модерн» — Андрей Белый, Леонид Андреев, Федор Сологуб. «Новая глава русской прозы», по Замятину, открывается именно Сологубом, его романом «Мелкий бес», его «бессмертным» шпионом, доносчиком и тупицей, учителем провинциальной гимназии Передоновым.
Да и впрямь есть преемственность уездной жуткой фантасмагории у Сологуба с гротескным миром замятинских обывателей: зверинокаменного Барыбы, тестяной сладострастницы Чеботарихи, свихнувшегося от пьянства юнкера, бесшабашного отца Евсея, двоедушного адвоката Моргунова («Уездное»), нелепого изобретателя исправника Ивана Макарыча и его сохнущей по жгучей страсти дочери Глафиры, графоманствующего пиита Кости Едыткина, почтмейстера князя Вадбольского, видящего спасение человечества в повсеместном распространении языка эсперанто («Алатырь») или «картофельного Рафаэля» — гения кулинарии, гаденького генерала Азанчеева («На куличках»). И когда Замятин будет писать о Сологубе — о его исканиях в языковой и стилистической сфере, о попытках внести в русскую литературу «европеизм», наконец, о его беспокойной и больной русской душе, он, по сути, будет писать о себе:
«Слово приручено Сологубом настолько, что он позволяет себе даже игру с этой опасной стихией, он сгибает традиционный прямой стиль русской прозы. В „Мелком бесе“ и „Навьих чарах“, во многом в своих рассказах он непременно смешивает крепчайшую вытяжку бытового языка с приподнятым и изысканным языком романтика… Всей своей прозой Сологуб круто сворачивает с наезженных путей натурализма — бытового, языкового, психологического. И в стилистических исканиях новейшей русской прозы, в ее борьбе с традициями натурализма, в ее попытках перекинуть какой-то мостик на Запад — во всем этом мы увидим тень Сологуба».
И далее — самое существенное, сокровенно-замятинское: «Если бы вместе с остротой и утонченностью европейской Сологуб ассимилировал и механическую, опустошенную душу европейца, он не был бы тем Сологубом, который нам так близок. Но под строгим, выдержанным европейским платьем Сологуб сохранил безудержную русскую душу. Эта любовь, требующая всё или ничего, эта нелепая, неизлечимая, прекрасная болезнь — болезнь не только Сологуба, не только Дон Кихота, не только Блока (Блок именно от этой болезни и умер) — это наша русская болезнь, morbus rossica» [3] Сб.: «Современная литература». Изд-во «Мысль», Л., 1925, с. 103—104.
.
Эта максималистская любовь — всё или ничего — оставалась и «прекрасной болезнью» самого Замятина.
Замятин был очень русский человек. В этом заключалась его сила как художника и его трагедия. Его отношение к старой России можно определить словами: «любовь — ненависть». Любовь к ее истокам, здоровой народной основе, творческой одержимости русской натуры, ее готовности к революционному обновлению. И ненависть к самодержавно-полицейским оковам, провинциальной тупости, азиатщине, резервуару дикости и бескультурья, который, как казалось писателю, невозможно исчерпать в обозримое время.
Символом такой косной, непреодоленной стихии становится Барыба («Уездное»): «Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад».
Путь Барыбы — путь бессмысленных жестокостей и преступлений: «продался» развратной купчихе в летах Чеботарихе, обидел безответную сиротку Польку, украл деньги у своего дружка отца Евсея, а другого приятеля, портного Тимошку, не моргнув глазом, отправил по ложному свидетельству на виселицу. Но есть ли смысл обвинять в чем-либо самого Барыбу, требовать от него чего-то иного? В жизни его столько раз бивали, что, по словам того же Тимоши, у Барыбы «души-то, совести… ровно у курицы». Это не Барыба, нет, а его утроба, его разгрызающие камни железные челюсти, его дикий желудок правят им.
Видел ли Замятин «другую Россию»? Конечно. В рассказах «Три дня» и «Непутевый» (где выведен «вечный студент» Сеня, гибнущий на баррикадах) писатель показал протестующую, революционную Россию. В цикле произведений о нашем Севере (повесть «Север», рассказ «Африка» и более позднее — «Ёла») мы встретим гордых мечтателей, сильных и красивых людей — «задумавшегося» добродушного русского великана Марея и прямодушную лопскую рыжую красавицу Пельку, очарованного, ошеломленного сказкой о несуществующей стране любви и изобилия — далекой Африке гарпунщика Федора Волкова, одержимого страстью к собственному суденышку — ёле бедного рыбака и великого труженика Цыбина.
«В 1915 году я был на севере — в Кеми, в Соловках, в Сороке, — вспоминал Замятин о том, как создавалась центральная вещь этого цикла. — Я вернулся в Петербург как будто уже готовый, полный до краев, сейчас же начал писать, — и ничего не вышло: последней крупицы соли, нужной для кристаллизации, еще не было. Эта крупинка попала в раствор только года через два: в вагоне я услышал разговор о медвежьей охоте, о том, что единственное средство спастись от медведя — притвориться мертвым. Отсюда — конец повести „Север“, а затем, развертываясь от конца к началу, и вся повесть (этот путь — обратного развертывания сюжета — у меня чаще всего)» [4] Е. Замятин . — В сб.: «Как мы пишем», «Изд-во писателей», Л., 1930, с. 73.
.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Замятин - Избранное [сборник]](/books/1144537/evgenij-zamyatin-izbrannoe-sbornik.webp)