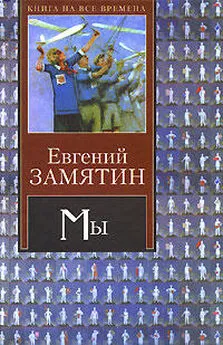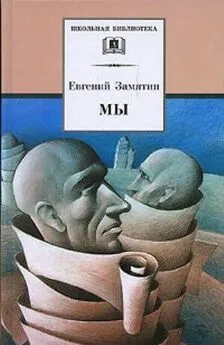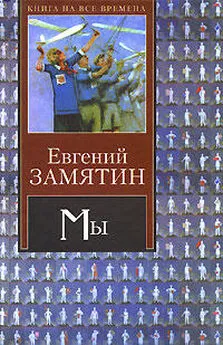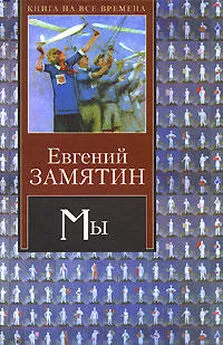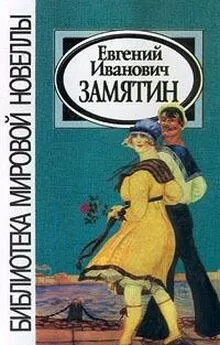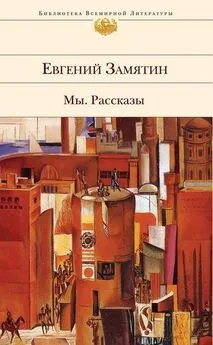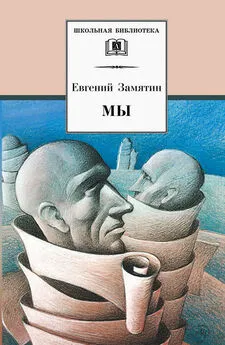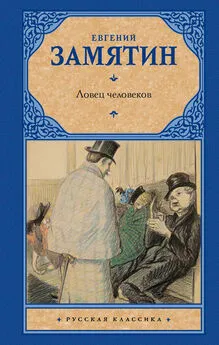Евгений Замятин - Избранное [сборник]
- Название:Избранное [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Замятин - Избранное [сборник] краткое содержание
Оформление художника А. Т. Яковлева; внутренние иллюстрации художника О. К. Вуколова.
Издание 1989 года.
[Аннотация верстальщика файла]
Избранное [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я знал обоих. Но я не вижу надобности говорить о писателе Горьком, о котором лучше всего говорят его книги. Мне хочется вспомнить здесь о человеке с большим сердцем и с большой биографией».
Это своего рода «венец Горькому», который сыграл немалую роль и в судьбе самого Замятина, и в биографии молодых петроградских писателей, назвавших себя «Серапионовы братья».
Ядром этой талантливой группы явилась литературная молодежь, занимавшаяся в 1919—1920 годах в студии переводчиков при издательстве «Всемирная литература», где с лекциями выступал Замятин. В содружество входили: И. А. Груздев, М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, Н. С. Тихонов, К. А. Федин.
Замятин был тесно связан с этим содружеством и оказал на его участников ощутимое влияние. Впрочем, воздействие его узорчатой орнаментальной прозы сказалось и на ранних опытах других молодых писателей, например, Л. Леонова, Н. Огнева. «Замятин был вообще того склада художником, — замечал К. А. Федин, — которому свойственно насаждать последователей, заботиться об учениках, преемниках, создавать школу» [12] Конст. Федин . Горький среди нас. Картины литературной жизни. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 77.
.
Говоря о большой культурной работе, какую вел в Петрограде начала 20-х годов Замятин, следует упомянуть и его популярную книгу о знаменитом немецком ученом-механике Майере (1922), и предисловия, вступления, отдельные очерки о Чехове, Федоре Сологубе, Анатоле Франсе, Герберте Уэллсе, О’Генри, Шеридане, а также воспоминания, которыми он откликнулся на уход из жизни А. Блока и Леонида Андреева. Он регулярно выступал с обзорами новинок современной литературы, один из которых высоко оценил Горький. «Я хотел бы, — писал Горький Каверину в декабре 1923 года, — чтоб всех вас уязвила зависть к „прежним“ — Сергееву-Ценскому, М. Пришвину, Замятину, людям, которые становятся все богаче словом, я имею в виду „Преображение“ Ценского и „Кащееву цепь“ Пришвина, и Замятина — статью в „Русском искусстве“, статью, в которой он сказал о вас много верного» [13] Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство, т. 70, М., 1963, с. 178.
. Речь шла о концептуальном обзоре Замятина «Новая русская проза», помещенном в журнале «Русское искусство».
Однако наиболее существенным было собственное художественное творчество Замятина этих лет. Сюда относится прежде всего остававшийся в рукописи (до выхода его в 1925 году за рубежом в переводах) фантастический роман «Мы», а также многочисленные рассказы, сказки, драматургические «действа», в которых писатель так или иначе касался «больных» сторон революционной и послереволюционной действительности: «Рассказ о самом главном», «Дракон», «Арапы», «Сподручница грешных», «Пещера», «Мамай», «Икс», «Слово предоставляется товарищу Чурыгину», «Огни святого Доминика» и т. д. В то суровое время многими пролетарскими писателями и литературными критиками это было воспринято как отступничество, как измена.
«Ты помнишь Замятина? — говорил в своих „Письмах о современной литературе“ В. Правдухин. — Помнишь его бесподобное „Уездное“, этот поразивший нас тип Барыбы, в котором мы увидели, как наша провинция, наш дореформенный быт уродовал, коверкал, уничтожал человека, делая его омерзительным паразитом жизни?.. В Замятине мы с тобой мечтали увидеть нового, освеженного грядущим Достоевского (или Гоголя), несущего жизни здоровое социально-художественное дуновение своим писательством. Ты помнишь его повесть „Островитяне“, где он „припечатал“ неискоренимое англо-саксонское мещанство и самодовольство?
Пришла революция. И что же? Этот Замятин „озлился“… И сам из такого блестящего художника — нелицеприятного и беспощадного — готов встать на путь обывателя, брюзжащего на революцию. Правда, талант — огромный талант! — спасает его пока что, но все же в последних его произведениях он не стал шире, а, наоборот, сузился; внутреннего роста не дал» [14] В. Правдухин . Литературная современность. 1920—1924. М., 1924, с. 42—43.
.
Что же служило материалом для такой критики?
Главным произведением Замятина этих первых послереволюционных лет был, бесспорно, фантастический роман «Мы», воспринятый современниками как злая карикатура на социалистическое, коммунистическое общество будущего. Теперь, когда ушла в небытие «злоба дня», за гребнем пережитого нашим обществом можно, кажется, уже объективнее подойти к его оценке.
«Мы» — краткий художественный конспект возможного отдаленного будущего, уготованного человечеству, смелая антиутопия, роман-предупреждение. Но в то же время — и сегодня это очевидно — вещь остросовременная, которая самым радикальным способом «работает» в наши дни на перестройку. Написанный в 1920 году, в голодном, неотапливаемом Петрограде, в обстановке военного коммунизма с его вынужденной (а часто и неоправданной) жестокостью, насилием, попранием личности, в атмосфере распространенного убеждения о возможности скорого скачка прямо в коммунизм, роман погружает нас в то будущее общество, где решены все материальные запросы людские и где удалось выработать всеобщее, математически выверенное счастье путем упразднения свободы, самой человеческой индивидуальности, права на самостоятельность воли и мысли.
«Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди — государственный нумер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, — он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом „моя“); справа — два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.
Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица…»
Это общество прозрачных стен и проинтегрированной жизни всех и каждого, розовых талонов на любовь (по записи на любого нумера, с правом опустить в комнате шторки), одинаковой нефтяной пищи, строжайшей, неукоснительной дисциплины, механической музыки и поэзии, имеющей одно предназначение — воспевать мудрость верховного правителя, Благодетеля. Счастье достигнуто — воздвигнут совершеннейший из муравейников. И вот уже строится космическая сверхмашина — Интеграл, долженствующая распространить это безусловное, принудительное счастье на всю Вселенную…
Читая роман, прослеживаешь и замятинские литературные истоки, его, так сказать, генетический код. В даровании писателя стебель, уходящий корнями, прочными и почвенными в глубь России, родной Лебедяни, уникально соединился, сросся с богатейшим европейским привоем. Гоголь, Лесков, Тургенев, конечно, Достоевский и тут же — Свифт, Уэллс, Анатоль Франс. Отсюда и два русла творчества. Густое, самоцветное по слогу, сказу и гротескное изображение старой России («Уездное», «Алатырь», «На куличках»), впрочем, в иных случаях и неподдельно-поэтическое, со словом, крепким и хрустким, словно тамбовская антоновка (так написан, например, волшебный рассказ 1923 года «Русь», на который Замятина вдохновили рисунки Кустодиева). И сатирические, памфлетные картины «каменной, асфальтовой, железной, бензинной, механической страны» — буржуазного Запада, Англии начала нынешнего столетия («Островитяне», «Ловец человеков»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Замятин - Избранное [сборник]](/books/1144537/evgenij-zamyatin-izbrannoe-sbornik.webp)