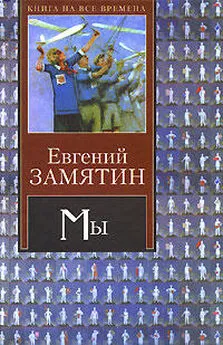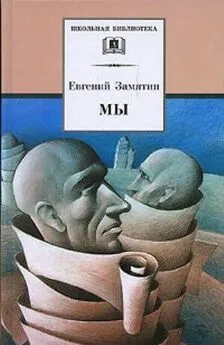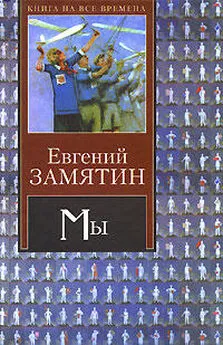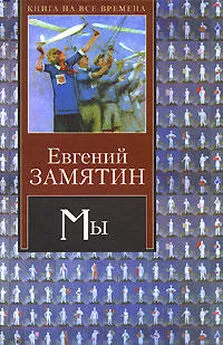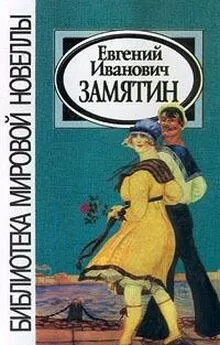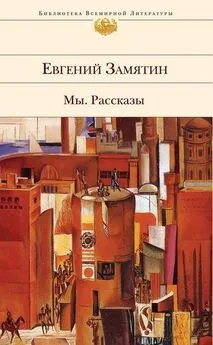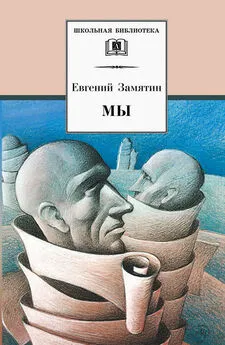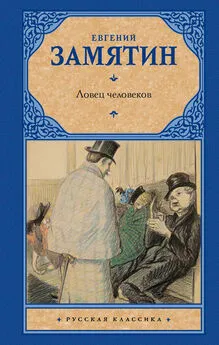Евгений Замятин - Избранное [сборник]
- Название:Избранное [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Замятин - Избранное [сборник] краткое содержание
Оформление художника А. Т. Яковлева; внутренние иллюстрации художника О. К. Вуколова.
Издание 1989 года.
[Аннотация верстальщика файла]
Избранное [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наша отечественная литература всегда отличалась от европейской. У нас — настойчивое «учительство», проповедническое, идущее еще от Аввакума, начало, некоторое пренебрежение к «форме»; там — утонченность, выверенность, изящество, торжество самодовлеющего стиля, завершенность. Замятин — один из немногих в русской литературе «европейских» писателей, писателей-интеллектуалов. В ряде работ он подробно разработал самые основы прозостроения. Как корабельный архитектор — ледокол, рассчитывал он нагрузку на сюжет, характер, язык. И даже элемент внезапного, иррационального в творчестве был им обоснован с помощью научных параллелей. Такова лаборатория замятинского творчества, куда приглашает нас писатель:
«Химики знают, что такое „насыщенный раствор“. В стакане налита как будто бесцветная, ежедневная, простая вода, но стоит туда бросить только одну крупинку соли и раствор оживает — ромбы, иглы, тетраэдры — и через несколько секунд вместо бесцветной воды уже хрустальные грани кристаллов. Должно быть, иногда бываешь в состоянии насыщенного раствора — и тогда случайного зрительного впечатления, обрывка вагонной фразы, двухстрочной заметки в газете довольно, чтобы кристаллизовать несколько печатных листов.
Из бесцветного ежедневного Петербурга (это был еще Петербург) я поехал как-то в Тамбовскую губернию, в густую, черноземную Лебедянь, на ту самую, заросшую просвирником улицу, где когда-то бегал гимназистом. Неделю спустя я уже возвращался — через Москву, по Павелецкой дороге. На какой-то маленькой станции, недалеко от Москвы, я проснулся, поднял штору. Перед самым окном — как вставленная в рамку — медленно проплывала физиономия станционного жандарма: низко нахлобученный лоб, медвежьи глазки, страшные четырехугольные челюсти. Я успел прочитать название станции: Барыбино. Там родился Анфим Барыба и повесть „Уездное“.
В Лебедяни, помню, мне сделал визит некий местный собрат по перу — почтовый чиновник. Он заявил, что дома у него лежит 8 фунтов стихов, а пока он прочел мне на пробу одно. Это стихотворение начинается так:
Гулять люблю я лунною порой
При цвете запахов герани,
И в то же время одной рукой
Играть с красавицей младой,
Прибывшей к нам из города Сызрани.
Пять строк эти не давали мне покоя до тех пор, пока из них не вышла повесть „Алатырь“ — с центральной фигурой поэта Кости Едыткина…
Ночное дежурство зимой, на дворе, 1919 год. Мой товарищ по дежурству — озябший, изголодавшийся профессор — жаловался на бездровье: „Хоть впору красть дрова! Да все горе в том, что не могу: сдохну, а не украду“. На другой день я сел писать рассказ „Пещера“.
Очень ясно помню, как возник рассказ „Русь“. Это — один из примеров „искусственного оплодотворения“, когда сперматозоид дан творчеством другого художника… Таким художником был Б. М. Кустодиев. Издательство „Аквилон“ прислало мне серию его „Русских типов“ — с просьбой написать о них статью. Статью мне писать не хотелось: только что была кончена статья о Юрии Анненкове (для его книги „Портреты“). Я разложил на столе кустодиевские рисунки: монахиня, красавица в окне, купчина в сапогах-бутылках, молодец из лавки… Смотрел на них час, два — вдруг они ожили и вместо статьи написался рассказ, действующими лицами в нем были люди, сошедшие с кустодиевских картин…
На дверях редакции была надпись: „Прием от 2 до 4“. Я опоздал — было половина пятого — и потому вошел уже растерянным, а дальше пошло еще хуже. За столом сидел Иванов-Разумник и с ним какой-то черный, белозубый, лохматый цыган. Как только я назвал себя, цыган вскочил: „А-а, так это вы и есть? Покорно вас благодарю! Тетушку-то мою вы как измордовали!“ — „Какую тетушку? Где?“ — „Чеботариху, в „Уездном“ — вот где!“
Цыган оказался Пришвиным, мы с Пришвиным оказались земляками, а Чеботариха — оказалась пришвинской теткой…
Эту пришвинскую тетку я не один раз видел в детстве, она прочно засела во мне, и, может быть, чтобы избавиться от нее, — мне пришлось выбросить ее из себя в повесть. Жизни ее — я не знал, все ее приключения мною выдуманы, но у нее в самом деле был кожевенный завод, и внешность ее в „Уездном“ дана портретно. Ее настоящее имя в повести я оставил почти без изменения: сколько я ни пробовал, я не мог ее назвать иначе, — так же как Пришвина не могу назвать иначе, чем Михаил Михалыч. Кстати сказать, это правило: фамилия, имена прирастают к действующим лицам так же крепко, как к живым людям. И это понятно: если имя почувствовано, выбрано верно — в нем непременно есть звуковая характеристика действующего лица.
Случай с пришвинской теткой — единственный: обычно я пишу без натурщика и натурщиц. Если изредка люди из внешнего мира и попадают в мой мир, то они меняются настолько, что лишь я один знаю, чья на них лежит тень. Но раз сегодня открыт вход за кулисы, нескольких таких теней я покажу — тем более, что все они наперечет.
Помню, когда-то я читал повесть „Алатырь“ А. М. Ремизову. Ремизов слушал, рисовал на бумажке чертей. Я до сих пор не знаю: увидел ли он, что алатырский спец по чертоведению отец Петр, автор „О житии и пропитании диаволов“ — в родстве с писателем Ремизовым.
Вечный студент Сеня, погибший на баррикадах в рассказе „Непутевый“, — жив до сих пор: это — бывший мой товарищ по студенческим годам Я. П. Г-ов. Ни его внешности, ни действительных событий его жизни в рассказе нет — и тем не менее именно от этого человека взята основная тональность рассказа. Позже он стал основателем секты книгопоклонников. В первые, голодные годы революции он часто заходил ко мне, с ним был всегда полный „куфтырь“ книг — они покупались на последнее, на деньги от проданных татарину штанов. И до неузнаваемости загримированный, он еще раз вышел на сцену в роли „Мамая 1917 года“ — в рассказе „Мамай“.
Опять — к давним гимназическим годам: канун Пасхи, весенний день, я вхожу во двор дома, где живет полковник Книпер. От изумления я столбенею: посреди двора на козлах — корыто, возле корыта с засученными рукавами — сам полковник, возле него суетится денщик. Оказалось, в корыте сбивается пятьдесят белков, полковник Книпер готовит для пасхального стола баум-кухен. Это пролежало во мне пятнадцать лет — и только через пятнадцать лет из этого, как из зерна, вырос генерал-гастроном Азанчеев в „На куличках“.
С этой повестью вышла странная вещь. После ее напечатания раза два-три мне случалось встречать бывших дальневосточных офицеров, которые уверяли меня, что знают живых людей, изображенных в повести, и что их настоящие фамилии — такие-то и такие-то, и что действие происходит там-то и там-то. А между тем дальше Урала я никогда не ездил, все эти „живые люди“ (кроме 1/10 Азанчеева) жили только в моей фантазии, и из всей повести только одна глава о „клубе ланцепутов“ построена на слышанном мною от кого-то рассказе. „А в каком полку вы служили?“ — Я: „Ни в каком. Вообще — не служил“. — „Ладно. Втирайте очки!“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Замятин - Избранное [сборник]](/books/1144537/evgenij-zamyatin-izbrannoe-sbornik.webp)