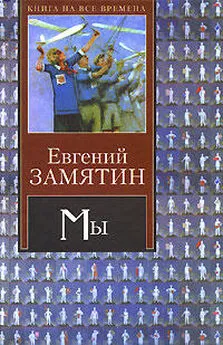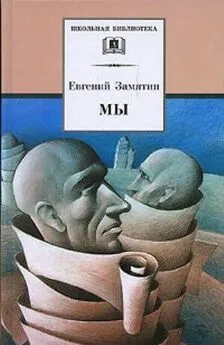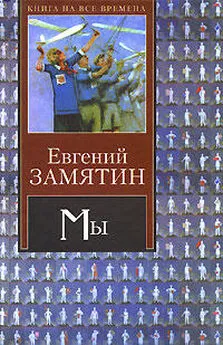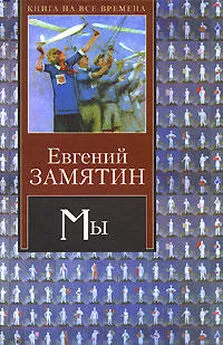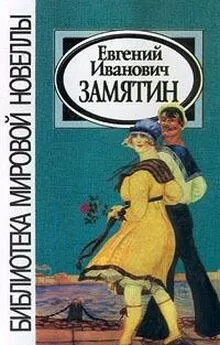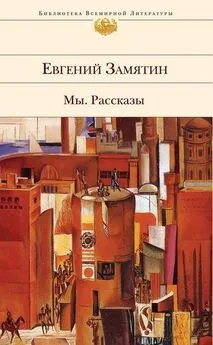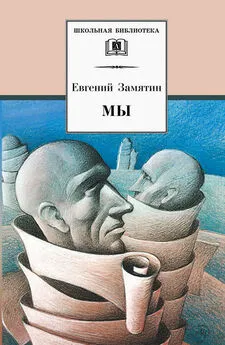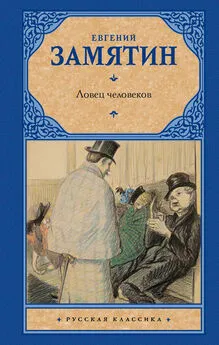Евгений Замятин - Избранное [сборник]
- Название:Избранное [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Замятин - Избранное [сборник] краткое содержание
Оформление художника А. Т. Яковлева; внутренние иллюстрации художника О. К. Вуколова.
Издание 1989 года.
[Аннотация верстальщика файла]
Избранное [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Трагедия была прочитана автором на заседании художественного совета ленинградского Большого драматического театра и получила превосходные отзывы слушателей, среди которых были представители восемнадцати фабрик и заводов Ленинграда. Высокую оценку «Атилле» дал Горький. «Пьесу Е. И. Замятина, — писал он, — я считаю высоко ценной и литературно и общественно. Ценность эту вижу в том, что гунны во главе с Атиллой идут разрушать Рим, как государство, фабрикующее рабов. Нахожу также, что героический тон пьесы и героический сюжет ее полезен — как нельзя более — для наших дней, когда мещанство шипит все более громко» [20] Отзыв 1929 года. Архив А. М. Горького. ИМЛИ.
.
Кстати, в эту пору ленинградские литераторы, отмечавшие 35-летие творческой деятельности Горького (находившегося в Италии), поставили «домашними силами» пьесу «На дне», где роли были распределены следующим образом: Васька Пепел — К. Федин, Лука — А. Толстой, Татарин — Н. Тихонов, Костылев — А. Чапыгин, Медведев — И. Садофьев, Бубнов — В. Каверин, Сатин — С. Маршак, Барон — Е. Замятин. Какой, должно быть, получился великолепный спектакль!
К пьесе «На дне» у Замятина оставалось особенное, любовное отношение. Недаром одной из его последних работ был сценарий по ней, написанный в 1936 году, уже за границей, по заказу одной кинематографической фирмы в Париже. Горький был извещен об этом, от него был получен ответ, что он удовлетворен участием Замятина в работе и хочет ознакомиться с текстом. Но жизнь не отпустила на это времени…
К концу 20-х годов вокруг Замятина по ряду причин складывается враждебная «полоса отчуждения».
Осенью 1929 года в пражском журнале «Воля России», без ведома автора (в обратном переводе с английского) был напечатан, с сокращениями, роман «Мы». Это послужило началом широкой обструкционистской кампании против Замятина. Вскоре в Художественном театре была снята с репертуара пьеса «Блоха», с успехом шедшая четыре сезона, и приостановлен на четвертом томе выпуск его собрания сочинений в издательстве «Федерация». Трагедию «Атилла», наполовину срепетированную Большим драматическим театром в Ленинграде, не разрешили к постановке. За всем этим стояли прежде всего действия вождей РАПП, претендовавших на гегемонию в литературе и искусстве.
Действительные и мнимые ошибки Замятина были лишь поводом для общей широкой кампании против так называемых «попутчиков», куда зачислялась большая часть советских писателей. В отношении к Замятину дело доходило до прямых передержек. Так, в его сказке «Бог», напечатанной в журнале «Летопись» в 1916 году, рапповский критик усмотрел издевательство над революцией в связи с переходом к нэпу, а в рассказе 1920 года «О том, как исцелен был инок Эразм» другой рапповский критик — И. Машбиц-Веров узрел притчу о поумневших после нэпа вождях. Так или иначе, но Замятину пришлось выйти из состава правления «Издательства писателей в Ленинграде» — последнего, где он еще печатался, редактировал и правил рукописи молодых литераторов.
Всю свою жизнь Замятин был «неудобным» писателем, сражаясь и отстаивая свое право на самостоятельность мысли, на дерзкую и горькую правду. Он считал себя неисправимым революционером в искусстве, «еретиком», безумцем. Свидетельство того — его статья 1921 года «Я боюсь», своего рода (как и роман «Мы») предупреждение, тоже «воспоминание о будущем», исходя из опыта драматического человеческого прошлого.
«Главное в том, — предупреждал он, — что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, еретики, отшельники, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически правоверным, должен быть сегодня — полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло… Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо сберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова» («Я боюсь»). Не здесь ли отмечены истоки того заболевания, которое сегодня мы можем диагностировать как явление литературы, порожденной бюрократическим мышлением, литературы застоя?
Обреченный на творческое молчание в создавшихся трудных условиях, Замятин обратился с письмом на имя И. В. Сталина с просьбой выехать за границу.
Решение это далось ему нелегко. Он прекрасно отдавал себе отчет, что там, по собственным словам, «в реакционном лагере», ему будет тяжело уже в силу бывшей принадлежности к РСДРП(б) и перенесенных в царское время репрессий, что там будут смотреть на него «как на большевика» и т. д. Но иного выхода он просто не видел. При посредстве Горького советское правительство в 1931 году удовлетворило его просьбу.
Он любил новую Россию, можно сказать, жил ею, но свой писательский долг и долг гражданский видел не в сочинении хвалебных од, а в обращении прежде всего к болевым точкам времени, с помощью острой критики и горькой правды.
Замятин не был и эмигрантом (в том смысле, в каком эмигрантами, изгнанниками оставались «непримиримые», выехавшие из России в результате Октябрьской революции и гражданской войны). Покидая Родину, он определенно надеялся вернуться и жил в Париже с советским паспортом. Первое время даже посылал секретарю Издательства писателей в Ленинграде 3. А. Никитиной деньги на оплату своей квартиры. Когда в Париже, в 1935 году открылся Международный Конгресс писателей, Замятин входил в состав советской делегации.
Замечательный русский писатель, он не был и тем беспросветным пессимистом, каким его часто пытаются изобразить (основанием для чего, понятно, может служить его горькая антиутопия «Мы»). В позднем эссе, озаглавленном «О моих женах, о ледоколах и о России», он выразил и свое отношение к Родине, и веру в провиденческий характер того, через что она прошла и, преодолевая застой и сопротивление, двинется, движется дальше:
«Ледокол — такая же специфически русская вещь, как и самовар. Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они закованы льдом беспощадной зимой — и чтобы не быть тогда отрезанным от мира, приходится разбивать эти оковы.
Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран, ее путь — неровный, судорожный, она взбирается вверх — и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Замятин - Избранное [сборник]](/books/1144537/evgenij-zamyatin-izbrannoe-sbornik.webp)