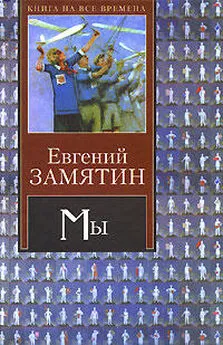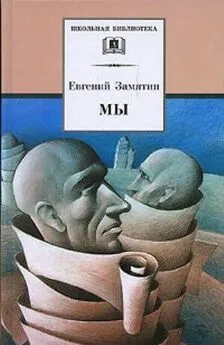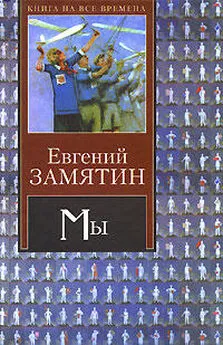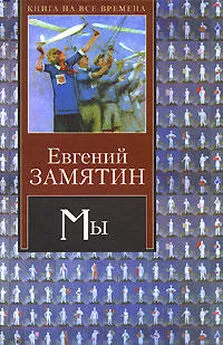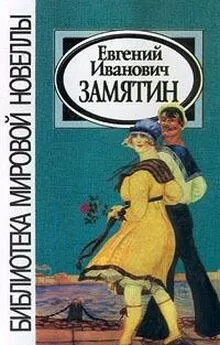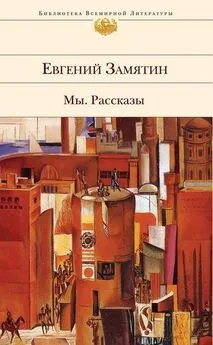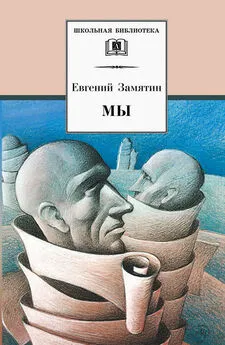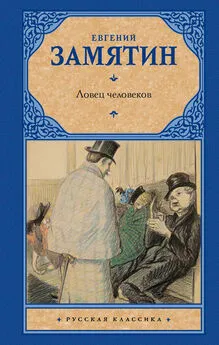Евгений Замятин - Избранное [сборник]
- Название:Избранное [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Замятин - Избранное [сборник] краткое содержание
Оформление художника А. Т. Яковлева; внутренние иллюстрации художника О. К. Вуколова.
Издание 1989 года.
[Аннотация верстальщика файла]
Избранное [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
„Втирать очки“ — строить даже незнакомый по собственному опыту быт и живых людей в нем — оказывается, можно. Фауна и флора письменного стола — гораздо богаче, чем думают, она еще мало изучена» [18] Сб. «Как мы пишем», с. 32—37.
.
Замятин именно «строил».
Он геометрически четко продумывал траектории в движении своих героев по пространству повести или рассказа. Он строго выверенно, расчетливо вводил повторяющуюся «мету», характеризующую персонажа: «воробьиность» хлипкого, неприкаянного Тимоши и каменная угловатость Барыбы («Уездное»), профиль без подбородка у князя Вадбольского («Алатырь»), курнофеечка-нос под огромным лбом поручика-мечтателя Андрея Ивановича, лягушачьи черты генерала Азанчеева, вплоть до предполагаемого скользкого пятнистого брюха, и резкие морщинки у губ страдающей, раздавленной окаянной жизнью Маруси Шмидт («На куличках»), «самоварность» лоснящегося самодовольством богатея Коротмы и детская голубизна глаз великана Марея («Север») и т. д. Но строительным материалом у него служил великолепный русский язык, первородный, «подслушанный» у народа. Сочетание виртуозного, хотя и рационального мастерства с корневой языковой основой и рождало «феномен Замятина».
В своей замечательной книге «Горький среди нас» К. А. Федин дал тонкую и точную характеристику замятинского таланта:
«Очень индивидуально было „должное“ Евгения Замятина — писателя изысканного, однако с сильными корнями в прошлом русской литературы. Он много придавал значения языку, оживляя его провинциализмами и теми придумками, какими так богат Лесков. Он насыщал свои повести яркой, находчивой образностью, но почти в обязательном порядке, так что механизм его образов бросался в глаза и легко мог быть перенят любым способным, старательным последователем… Не слишком терпимый к чужому вкусу, он весь талант направлял на заботы о совершенстве своего вкуса, своей эстетики. Его произведения всегда бывали безупречны — с его точки зрения. Если принять его систему, то нельзя найти ошибок в том, как он ею пользовался. Если крупного писателя можно угадать по любой странице, то Замятина не хитро угадать по любой фразе. Он вытачивал вещи, как из кости, и, как в костяной фигурке, в его прозе наиболее важной была композиция. Тут проявлялась еще одна сторона его сущности — европеизм. Выверенность, точность построения рассказов Замятина сближали его с европейской манерой, и это был третий кит, на который опиралась культура его письма.
Первые два кита Замятина — язык и образ — плыли из морей Лескова и Ремизова, что в значительной степени предрешало его судьбу — трагическую судьбу писателя, как Ремизов, навсегда отдавшегося сражениям с мельницами стиля. Молодой не только по годам, но и по литературному возрасту — моложе символистов — по самому духу своему гораздо более революционный, чем они, и такой же, как они, принципиальный по художественным целям, Замятин вдруг высказывал взгляды, роднившие его с консерваторами, с теми духами молчания, которые прятались от гражданской войны в пещерах. Он убедил себя и убеждал других, что вынужден молчать, потому что ему не позволено быть Свифтом, или Анатолем Франсом, или Аристофаном. А он был превосходным бытовиком, его пристрастие к сатире было запущенной болезнью, и, если бы он дал волю тому, чем его щедро наделила родная тамбовская Лебедянь, и сдержал бы то, что благоприобрел от далекого Лондона, он поборол бы и другую свою болезнь — формальную изысканность, таящую в себе угрозу бесплодия. Он обладал такими совершенствами художника, которые возводили его высоко. Но инженерия его вещей просвечивалась сквозь замысел, как ребра человека на рентгеновском экране… Чтобы стать на высшую писательскую ступень, ему недоставало, может быть, только простоты» [19] Конст. Федин . Горький среди нас. Картины литературной жизни, с. 77—78.
.
Это свидетельство ученика Замятина по содружеству «Серапионовы братья», который стал одним из виднейших мастеров советской литературы, доброжелательно и объективно дает портрет автора «Уездного», «Островитян», «Руси».
В 20-е годы Замятин продолжал активно работать в литературе, создавая новые заметные произведения. Таковы рассказ о русском Севере «Ёла» (1928), социально-психологическая, с изломами, «достоевщинкой» любовная драма «Наводнение» <1930> или законченная позднее (1935), но начатая в 1928 году повесть о позднем, гибнущем Риме «Бич Божий», написанная, кажется, на пределе исторической достоверности и стилистической виртуозности. Кроме испытанного жанра прозы, писатель обращается теперь к стихии драматургии, театра. Его шуточно-народное действо «Блоха», созданное по мотивам Лескова, раскрыло новые грани замятинского языкового богатства. Декорации к постановке были созданы замечательным русским художником Б. М. Кустодиевым. Поставленная в Художественном театре и ленинградском Большом драматическом театре в 1925 году пьеса имела триумфальный успех.
Мысль о России, ее истоках, ее «корневых» характерах, не отпускавшая Замятина при работе над «Блохой», просвечивает и в другой его вещи, как мы помним, созданной тоже при участии Кустодиева, — рассказе 1923 года «Русь». Это литая, звонкая проза-песня, которая учит нас любить свою землю: «Может, распашут тут неоглядные нивы, выколосится небывалая какая-нибудь пшеница, и бритые арканзасцы будут прикидывать на ладони тяжелые, как золото, зерна; может, вырастет город — звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, железный — и со всего света, через моря и горы будут, жужжа, слетаться сюда крылатые люди. Но не будет уже бора, синей зимней тишины и золотой летней, и только сказочники, с пестрым узорочьем присловий, расскажут о бывалом, о волках, о медведях, о важных зеленошубых дедах, о Руси, расскажут для нас, кто десять лет — сто лет — назад еще видел все это своими глазами, и для тех, крылатых, что через сто лет придут слушать и дивиться всему этому, как сказке». Нет, не брюзжащим, скептически настроенным интеллигентом, а художником-патриотом, влюбленным в свой край — его прошлое и его будущее, — видится здесь Евгений Замятин.
В конце 20-х годов он обращается к жанру исторической драмы и создает трагедию «Атилла» (Авторское написание. — О. М.) о нашествии варваров на дряхлеющий, внутренне обреченный Рим. «Чтобы войти в эпоху Атиллы (для пьесы „Атилла“), — вспоминал сам Замятин, — потребовалось уже около двух лет, пришлось прочитать десятки русских, французских, английских томов, дать три текстовых варианта. Совершенно независимо от того, что пьеса до сцены так и не дошла — все это оказалось только подготовительной работой к роману» (речь идет о повести «Бич Божий», в которой показаны лишь отроческие годы Атиллы).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Замятин - Избранное [сборник]](/books/1144537/evgenij-zamyatin-izbrannoe-sbornik.webp)