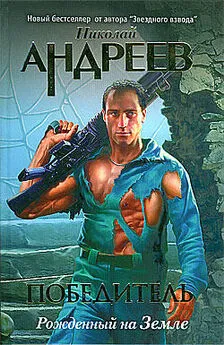Николай Чернышевский - Пролог
- Название:Пролог
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Чернышевский - Пролог краткое содержание
Роман из начала шестидесятых годов
Пролог - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Придет серьезное время. Когда? — Я молод, потому для допроса обо мне все равно, когда оно придет: во всяком случае, оно застанет меня еще в полном цвете сил, если я сберегу себя. Как придет? — Как пришла маленькая передряга Крымской войны; — без наших забот, пусть не хлопочу: никакими хлопотами ни оттянешь, ни ускоришь вскрытие Невы. Как придет? — Мы говорим о времени силы, — сильна только сила природы:
По воздуху вихорь свободно шумит;
Кто знает, откуда и как он летит?
Шансы будущего различны. Какой из них осуществится? — Не все ли равно? — Угодно мне слышать его личное предположение о том, какой шанс вероятнее других? — разочарование общества и от разочарования новое либеральничанье в новом вкусе. — по-прежнему мелкое, презренное, отвратительное для всякого умного человека с каким бы то ни было образом мыслей. — для умного радикала такое же отвратительное, как для умного консерватора. — пустое, сплетническое, трусливое, подлое и глупое. — и будет развиваться, развиваться. — все подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе, — вероятнее всего во Франции, не подымется буря и не пойдет по остальной Европе, как было в 1848 году.
В 1830 году буря прошумела только по Западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву.
Верно ли это? — Верного тут ничего нет; только вероятно. Отрадна ли такая вероятность? По его мнению, хорошего тут нет ровно ничего. Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше. Это общий закон природы: данное количество силы производит наибольшее количество движения, когда действует ровно и постоянно; действие толчками и скачками менее экономно. Политическая экономия раскрыла, что эта истина точно так же непреложна и в общественной жизни. Следует желать, чтобы все обошлось у нас тихо, мирно. Чем спокойнее, тем лучше.
Но так или иначе, придет серьезное время. Почему это несомненно? Потому, что связи наши с Европою становятся все теснее, а мы слишком отстали от нее. Так или иначе, она подтянет нас вперед к себе.
Придет серьезное время. Пойдут вопросы о благе народа. Нужно будет кому-нибудь говорить во имя народа. Я должен буду приберечь себя к тому времени.
Как я ушел от Волгина, как я доехал сюда, как прошло у меня время тут на даче, я мало помню. Я был как пьяный. Слышать от него, что я могу понадобиться народу — можно было опьянеть… Пока я оставался на глазах у него, я имел смысл скрывать, что я опьянел. Но теперь замечаю, что не могу отдать отчета себе в том, что было после того, как он обнял меня и сказал: «Подумайте еще, мой упрямый, мой милый. — подумайте. Я не отстану, пока не уговорю вас. До завтра». — Как я сходил с лестницы. — долго ли шел, где сел на извозчика. — тихо ли ехал, или скоро? — Не помню. — Как вошел сюда, помню; потом опять не знаю: сидел ли я все время неподвижно или вставал и ходил? — Но должно быть, как вошел, бросился на стул и сидел все в том положении, в каком стал образумливаться. Как слаба моя голова, как сильно во мне тщеславие!
И долго ли я оставался помешанным? — Теперь половина восьмого. Часа два пишу. Перед тем как сел писать, вероятно с полчаса просидел уже не сумасшедшим. Когда ушел от Волгина, всходило солнце, он сказал: «Э, да уж солнышко всходит! — Ну, так пора спать». Оно всходит ныне часа в три, кажется. Справлюсь.
Так, в три четверти третьего. Стал образумливаться в конце пятого, вероятно. Пароксизм продолжался около двух часов. — Порядочно измучился этим волнением тщеславия.
Девять часов утра. Так и не спится. Что за мелкая душонка! И умная голова.
Но должно отдать справедливость и Волгину.
Впрочем, как ни смешна его странная фантазия обо мне, я завидую ему. Его заблуждение показывает, как нежно полюбил меня. Ему уже двадцать девять лет, а мне нет и двадцати одного года. — и я уже не способен к такому увлечению. Например, хоть мое чувство к нему. Я тоже полюбил его. Но я вижу его недостатки. Он не верит в народ. По его мнению, народ так же плох и пошл, как общество. Понятно, почему он так думает: ему не хотелось бы террора; он и старается убедить себя, что террор невозможен. Он слишком холодно советует терпеть. Это явная логическая ошибка: «Нам с вами очень можно терпеть, потому что нам недурно» — совершенно согласен; но «Потому пусть и народ потерпит». Народу не так легко терпеть, как нам; — Люблю Волгина, но вовсе не слеп на его недостатки. Это делает честь мне как наблюдателю; но плохо рекомендует меня как человека.
Не знаю, как мы с ним взглянем друг на друга без хохота. Трудно решить, кто из нас был смешнее: он ли, говоривший, что я обязан беречь себя для блага народа, потому что я такой человек и т. или я, хоть и державший себя хладнокровно, но слушавший такие слова и возражавший: «Вы ошибаетесь, я не такая редкость и драгоценность». Позволительно ли человеку в здравом уме слушать подобные вещи? Я должен был сделать вид, что принимаю его слова за шутку, рассмеяться и уйти. — даже дать заметить, что несколько обиделся, что шутка слишком насмешлива. Конечно, так; это было единственное средство не остаться смешным в его глазах, когда он станет судить похладнокровнее.
Нет, я еще более нелеп, нежели он! Подвергнуться такому головокружению!
В двенадцать часов я должен быть у него. Как-то мы поговорим еще? — Это любопытно.
Половина пятого. Половина пятого. Половина пятого. Солнце сияет, и вся природа дышит счастьем. Я был счастливее тебя, ты, голубь, воркующий на моем окне своей милой о любви своей.
Милая моя! Где ты? Услышь меня!.. Нет в моем стоне жалобы на тебя! Мне больно, друг мой. — но благодарю, благодарю тебя за счастье, которое ты давала мне!
Половина одиннадцатого. Больно, это правда. Гораздо больнее, нежели то мучение от разрыва с товарищами. Но тогда чрезвычайно соблазняла мысль о самоубийстве. А теперь не было ни малейшего желания отказаться от жизни. Чем объяснить такое равнодушие к собственному страданию, казалось бы, мучительному до невыносимости? Неужели совершенно притупилась и та маленькая чувствительность, какая была во мне прежде?
Половина двенадцатого. Запишу как-нибудь. — я думаю, что могу написать со смыслом и в порядке, без лишней поэзии.
Поутру, совершенно образумившись от самолюбивого волнения, произведенного слишком добрыми ко мне словами Волгина, я сел у кровати Анюты ждать, когда она проснется. Мне казалось, что с каждым днем больше люблю ее. Вероятно, это и была правда. По крайней мере правда то, что в эти последние дни я сделался способнее обыкновенного чувствовать живо. Мои нервы были сильно раздражены счастием, что наша жизнь обеспечена; потом все больше раздражались от доброго расположения, которое с каждым новым разговором сильнее выказывал мне Волгин. Это человек преданный народу, и я не мог оставаться равнодушен, видя, что приобретаю его горячую привязанность. А эту последнюю ночь я провел буквально в горячке, и от нее должна была оставаться очень сильная экзальтация. Да и Анюта, проснувшись, милая, приняла меня в свои объятия с чрезвычайною нежностью. Еще никогда не ласкала она меня с таким увлечением, как будто мое сладострастие разожгло и в ней жгучую, ненасытимую жажду наслаждения. У нее захватывало дух, она стонала. — чего никогда не бывало; и это было также в первый раз, что не она утомилась моими ласками, а я вырвался из ее объятий. — Я принимал за порывы и слезы распылавшегося сладострастия то, что было судорожным плачем обо мне; — принимал за жажду продлить наслаждение, желание отсрочить разлуку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: