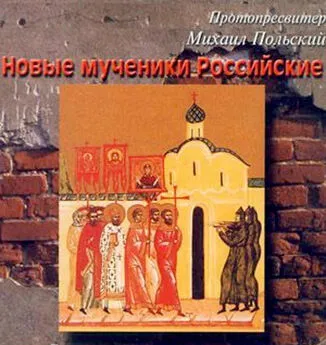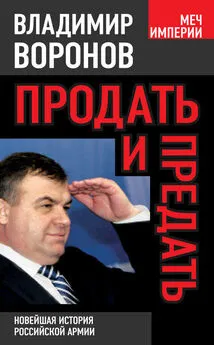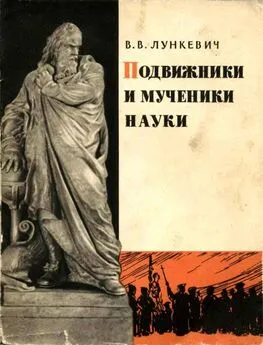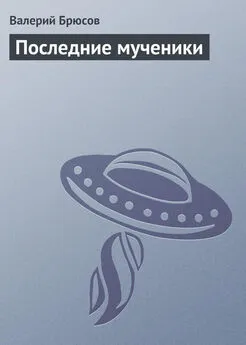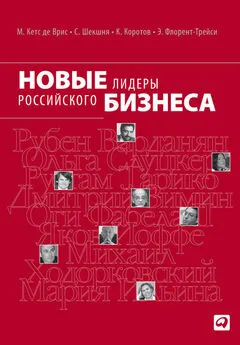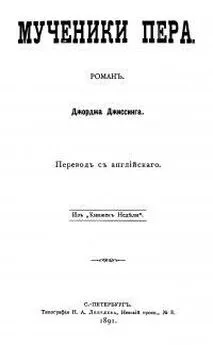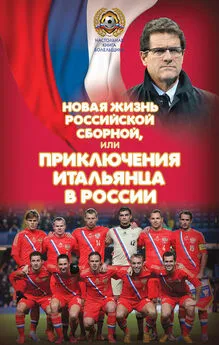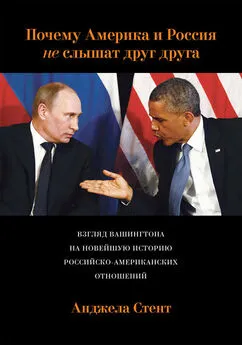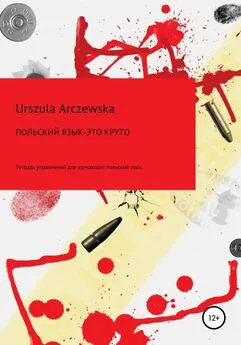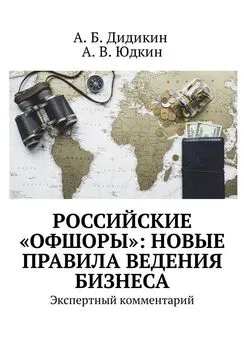М Польский - Новые Мученики Российские
- Название:Новые Мученики Российские
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
М Польский - Новые Мученики Российские краткое содержание
Новые Мученики Российские - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другая замечательная личность в процессе, вслед за Митрополитом, обращавшая на себя значительное внимание, это архимандрит Сергий (в Mиpе бывший член Государственной Думы {38} В. П. Шеинь). Большое сходство и, в то же время, яркий контраст с Митрополитом. Сходство - в глубокой вере и готовности за нее пострадать и разница - в характерах и в темпераментах.
Митрополит не боялся смерти, он и не искал ее: он спокойно шел на встречу ожидавшей его участи, отдавшись на волю Божию. О. Сергий, как бы, желал "пострадать за веру". Отсюда его пламенные, вдохновенный речи на суде, отличавшиеся от спокойных и сжатых объяснений и ответов Владыки на суде. Старый политический боец чувствовался еще в отце Сергии.
Нечто, бесконечно возвышавшееся над политикой, проницало всю личность Митрополита. Мученик первых веков христианства, в мучениях радостно торжествующие над изумленными палачами и - благостный, спокойный, живущий вдали от Mиpa, весь в созерцании и молитве, святой отшельник той же эпохи воплощением таких двух образов седой старины казались отец Сергий и Митрополит.
Председатель Правления О-ва объединенных петроградских православных приходов, профессор Петроградского Университета Ю. Л. Новицкий - спокойный, ясный и твердый в своих объяснениях и бывш. присяж. повр. И. М. Ковшаров, заранее покорившийся своей участи, смело глядевший в лицо своим "судьям" и не скупившийся на полные горького сарказма выпады - таковы остальные две жертвы из тех четырех, которые были обречены на смерть ради вящего торжества советской власти и укрепления нарождавшейся "Живой церкви" ...
Кроме Митрополита, были привлечены к делу: епископ Венедикт, настоятели почти всех главных петроградских соборов, профессора Духовной Академии, Богословского института и университета, студенты и т. д. Остальная (большая) часть подсудимых состояла из людей "разного чина и звания", более или менее случайно захваченных неводом милиции при уличных беспорядках во время изъятия. Тут были женщины, старики и подростки и был какой-то карлик с пронзительным голосом, вносивший комическую ноту в тяжелые переживания процесса; была фельдшерица, обвинявшаяся в "контрреволюционной" истерике, в которую она впала, находясь в церкви во время нашествия советской комиссии, был даже какой-то перс, чистильщик сапог, магометанин, не понимавший, как оказалось, по-русски, - все же привлеченный за "сопротивление изъятию церковных ценностей", - и т. д. ... Словом, эта часть подсудимых представляла собой обыкновенный, весьма случайный по составу, осколок пестрой уличной толпы ... Очевидно было, что никто и {39} не думал делать сколько-нибудь тщательный отбор подсудимых. Некогда было ...
Зал заседания огромен; он вмещает, считая с хорами, около 2500-3000 человек. И, тем не менее, во время процесса, он всегда был переполнен. Можно сказать, что за несколько недель разбора дела, значительная часть петроградского населения прошла через этот зал. Ничто не останавливало притока публики: ни утомительная подчас монотонность судебного следствия, ни облава, устроенная на второй же день процесса перед зданием филармонии и захватившая несколько сот человек (из публики, ожидавшей открытия заседания), которые оставались арестованными вплоть до самого окончания дела, - ни, наконец, риски и опасности, ожидавшие публику в самом зале.
Здесь неоднократно производились аресты - лиц, якобы, манифестировавших в пользу подсудимых (демонстранты в пользу обвинения встречались, понятно, очень благосклонно). Хозяевами в зале были, собственно, "командированные" посетители. Их всегда было очень много. Остальная публика сидела, обыкновенно, молчаливая, приниженная, только тоскливыми лицами, да не всегда сдерживаемыми слезами, выдавая свое глубокое затаенное волнение.
"Введите подсудимых", - распорядился председатель.
Среди мертвой тишины из самого отдаленного угла зала показалась процессия. Впереди шел Митрополит, в своем облачении, с посохом в руке. За ним - епископ Венедикт. Далее - прочие духовные лица, а за ними остальные подсудимые.
Публика, завидев Митрополита, встала. Митрополит благословил присутствовавших и сел.
Начался бесконечно утомительный формальный опрос подсудимых (имена, фамилии, возраст, судимость и т. д.), занявший весь день.
К чтению обвинительного акта было приступлено лишь в понедельник, 12 июня.
Каким образом большевики создали обвинение против Митрополита и др. обвиняемых. Очень просто. В их распоряжении были десятки отдельных производств, возникших по поводу отдельных же эпизодов, имевших место при изъятии ценностей в разных петроградских церквах и в различное время. По возникновении надобности в создании данного дела - все эти производства "сшили" в единое целое (в переплетном смысле), и все события, в них изложенные, были объявлены результатом злонамеренного подстрекательства со стороны "преступного общества", состоявшего из Митрополита и др. лиц, {40} главным образом, членов Правления О-ва петроградских православных приходов.
Обвинительной формулой Митрополиту вменялось в вину то,
а) что он вступил в сношения и переговоры с сов. властью в Петрограде, имевшее целью добиться аннулирования или смягчения декретов об изъятии церковных ценностей, б) что он и его сообщники находились при этом в сговоре со всемирной буржуазией и в) что, как средство для возбуждения верующих против сов. власти, те же обвиняемые избрали... распространение среди населения копий заявлений (указанных выше), Митрополита в Комиссию Помгола.
Эта формулировка сама за себя говорит. Достаточно обратить внимание на то, что объявляется преступным факт вступления в переговоры с сов. властью, - переговоры, к тому же возникшие по ее же инициативе и закончившиеся соглашением.
По оглашении обв. акта трибунал перешел к допросу подсудимых по существу предъявленного к ним обвинения.
Первым был подвергнуть допросу Митрополит.
В течении ряда часов (12 и 13 июня) обвинители и судьи осыпали его вопросами, на которые он, абсолютно не волнуясь и ни на миг не теряясь, давал своим ясным, спокойным голосом короткое, категорически, исчерпывающее и не допускающие разнотолкования ответы.
Допрос Митрополита велся, главным образом, в трех направлениях: а) в отношении Митрополита к постановлениям Карловацкого Собора (об этих постановлениях, вообще, говорилось в процессе очень много, - едва ли не больше, чем о самом изъятии б) об отношении Митрополита к декретам об изъятии церковных ценностей и в) об упомянутых выше двух заявлениях Митрополита в Помголе.
По первому вопросу Митрополит ответил, что постановления Карловацкого Собора ему неизвестны, - ни официально, ни приватно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: