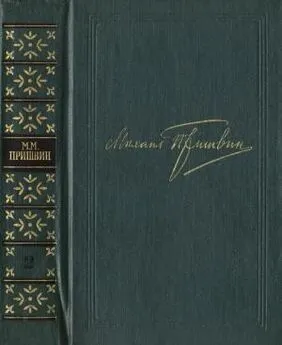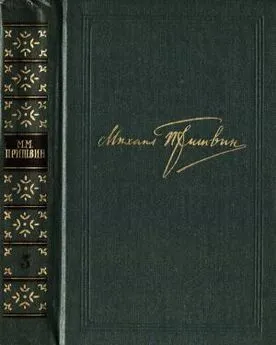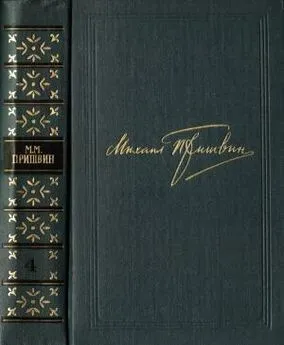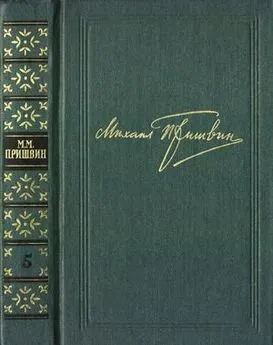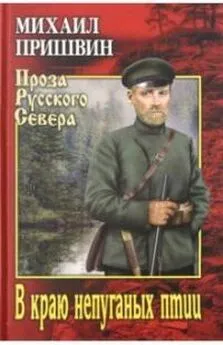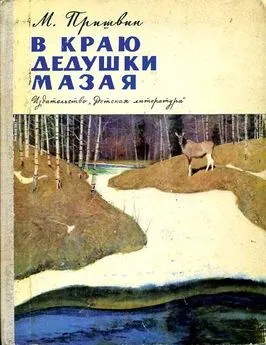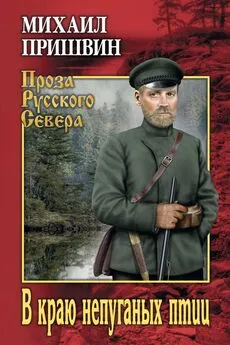Михаил Пришвин - Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком
- Название:Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пришвин - Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком краткое содержание
Во первый том восьмитомного Собрания сочинений М. М. помещены его ранние произведения, в том числе такие известные, как «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и другие.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Какие-то сгустки тьмы осели на землю, и кланяются, и шевелятся под дождем.
– Держись к стороне, не разбивайся! – неожиданно прорезывает тьму окрик городового.
Ползут.
Слышно, как чавкает слякоть, как булькают капли дождя по лужам, как жидкая грязь заливает следы. Что-то белеет внизу. Приглядываюсь: ребенок привязан к шее ползущей женщины. Ей труднее всех ползти. Бревно на пути. Отвязывает ребенка, кладет за бревно в грязь, а сама переползает и снова подвязывает. У обрыва ползут по двое, осторожно.
Раз оползли. Опять молятся на церковь. Опять собираются.
– Держись к одной!
Исчезают во тьме. Ребенок кричит.
. . . . . . . . . . . . . . .
– Бабушка, неужели это Христос?
– Христос, родимый, Иисус Христос. Бог-то Саваоф непростимый. А Христос за нас смерть принял. Лучше его не найдешь и в царство небесное с ним попадешь. Вот Варвара-мученица сорок мужей имела, а как Истинному припала, он и простил. А бог-то непростимый: без Христа нельзя.
Мистерия кончилась плохо. В своей современной одежде на фоне средневековой толпы я показался подозрительным городовому. Паспорт остался в вещах в трактире, и меня повели в участок. Несколько стражников и лиц, похожих на нечищеные сапоги, лениво курили, лениво сплевывали, лениво смотрели на меня.
– Привел!
В моих бумагах нашли предписание губернатора о покровительстве мне.
Инквизиция была коротенькая. Но много ли нам теперь нужно?
Так кончилась мистерия, и так я начал свои поиски невидимого града.
Глава III. Крест в лесу
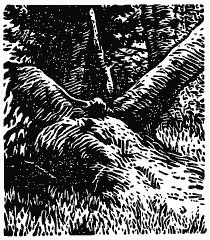
Курится сосна, подожженная молнией. Дым, как хвост десятирожного зверя, завернулся над лесом, тяжелый, спит. Паломники возвращаются с годины Варнавы в Уренские леса. Плот переплывает Ветлугу молчаливо. Косяки черных платков, острые носы, старые подбородки, недоверчивые лесные глаза – все начеку. На воде говорить – нехорошо.
Плот пристает к берегу. И кто-то тяжелый, спящий над лесом, пробуждается, ползет по вершинам сосен навстречу, становится на дыбы, глядит, темный, нерадостный.
Паломники крестятся перед часовней столбиком и один за другим исчезают между соснами.
Направо, налево, на множество верст высокие зеленые стены. Папоротники, полянки с ландышами, белки.
Это леса Уренского края, населенные потомками сосланных при Петре стрельцов. В Варнавине мне много насказали про этот край, и я опять отступил от плана и поехал, свободный, бескорыстный, отдался всецело невидимым тайным помощникам, сопровождающим меня в путешествии. Передо мною божья книга – читай, перевертывай страницу за страницей.
Бог этих лесов какой-то суровый, коренастый, глядит исподлобья, не доверяет и принимает молитвы не тремя, а двумя пальцами. Люди тоже неприветливые. Одежда, лица, характер – все не такое, как на моей равнине. Неужели это от двуперстия?
Чтобы сойтись с ними, я забываю о трех перстах, перестаю курить, есть скоромное, пить чай. И все-таки побаиваюсь. Первое условие для сближения – искренность. Но где ее найти, когда все эти предметы культа: старинные иконы, семь просфор, хождение посолонь, двуперстие – для меня лишь этнографические ценности. Стучусь под окошком одного дома и побаиваюсь. Старик, черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, отворяет.
– Откулешний? Зачем?
– Ищу правильную веру.
– Входи.
Угол с образами. Большая развернутая книга с славянскими буквами, на ней очки с темными тесемками. В радужное стекло глядится лес.
Старик испытывает меня: не на жалованье ли я, не от правительства ли?
– Боже сохрани. Я не на жалованье. Я от газеты. Я получаю за строчку.
– Какую строчку?
– Вот! – показываю я на книгу.
Надевает очки, глядит в Псалтырь.
– Какую, говоришь, строчку?
– Хоть эту:
«Небеса поведают славу божию, творения же рук его возвещает твердь».
– И за такую строчку вам деньги платят? – спрашивает старик и глядит поверх очков.
Я смутился, подумал: неспроста говорит старик; но ошибся: он удивлен, как ребенок.
– Это вроде как нам за борозду, – смеется он. – У меня есть сын, тоже читатель. Миша! По твоей части приехали.
Молодой, сметливый парень сразу догадался. На полке у него множество священных книг в желтых кожаных староверских переплетах с застежками. В одной из этих, почитаемых как священные, книг строчки не славянские, мелкие, знакомые. Это «Жизнь протопопа Аввакума» Мякотина. Издание Павленкова, но в священном переплете и на священной полочке.
– Вот они, наши строчки! – говорю я, обрадованный.
– Так вы вроде Мякотина?
– Конечно, конечно, я вроде Мякотина.
И вижу в радужное окно: светлеет в лесу, яснеет лик недоверчивого сурового уренского бога. Мост, быть может, отчасти и мною созданный, перекидывается ко мне.
Для «науки» Михаил Эрастович, сын хозяина, готов на все.
– Мы вам все откроем, – говорят мне. – Мы вам все веры покажем. Есть святые места, есть святые люди, есть начетчики райские. Куда везти?
– К Максиму Сергеевичу? – спрашивает сын.
– Любого попа загонит! – одобряет отец.
– Или к Александру Федоровичу?
– Делец!
– Или к Дмитрию Ивановичу?
– Петля!
– А то к Петрушке?
– Вези к Петрушке, с него начни.
Поутру рано меня повезут в страшную глушь к святому, который просидел, спасаясь молитвой, двадцать семь лет в лесной яме. А сегодня угощают. «Ученому» не грех даже напиться чаю, и можно папироску в окно выкурить, и поесть скоромное.
И вот случай… Вот исключение в староверском быту. Еще случай, еще исключение. И так сложится правило, чудесное, из одних только исключений. Это и есть путешествие.
Святой живет где-то около деревни Березовки. Дорога лесная по пням и через поваленные деревья. Просека длинная, длинная: кажется, это леший в кулак поглядел отсюда туда, к нам, в безлесье, – и задумался. Может быть, видит, как на черные поля из красного глиняного оврага вылез погреться на солнце шутяка бесхвостый, ощипанный.
Леший грустит… А мой спутник Михаил Эрастович думает, что там, за просекой, чудесный мир…
Он все хозяйство бросил для «науки», едет и думает, что мы с ним делаем какое-то большое дело для большого неведомого мира – там, за лесами.
Не очень далеко от святого, рассказывает он мне, на Усте стоял прекрасный прославленный монастырь Красно-яр. И стоять бы ему вечно, но дьявол искусил царя Николая I. Прислал гонца из «Питенбурга», чтобы «зорить» святой монастырь. Стали ломать кельи. Ужас всех объял, думали – человек вновь перерождается. Сломали. И свой же нечестивый человек, Алеша Тоска, свергнул крест с часовни. Монастырь потух. Гонец побежал назад. А государю в те поры думно стало, захворал, спохватился: напрасно, сказал, я послал «зорить» благочестивый монастырь. И послал другого гонца остановить. Бегут гонцы: один из Краснояра в Питенбург, другой из Питенбурга в Краснояр… И вот, как встретились, так…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: