Давид Самойлов - Мемуары. Переписка. Эссе
- Название:Мемуары. Переписка. Эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1900-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Самойлов - Мемуары. Переписка. Эссе краткое содержание
Мемуары. Переписка. Эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Павел привык верховодить в этой компании.
Стремление к главенству у него было сильно развито. Павел был как бы нашим вождем. На деле это происходило оттого, что никто другой не претендовал на главенство.
Вскоре после знакомства с ифлийскими поэтами я близко подружился с Сергеем Наровчатовым. В разной степени общения с ним прошло более сорока лет моей жизни. Совсем это общение никогда не прерывалось.
Сергей Наровчатов был эдакий добрый молодец, богатырь Алеша Попович. Двигался он немного враскачку, походкой таежного волка. Светло-русый, синеглазый, улыбающийся, с вечной папироской в углу рта, он был чистой погибелью наших девиц. Впрочем, успехами своими у женского пола не слишком был занят. Характер его отличался некоторым равнодушием к окружающим, и темперамент выявлялся в честолюбии, близком к тщеславию, и в истинной жажде знаний. Мог он пропустить любое свидание, увлекшись разговором о литературе и истории. Читал взахлеб. И знал очень много уже в те времена.
Перед поступлением в институт Сергей с семьей жил в Магадане. В его рассказах и стихах то и дело вспыхивала клондайковская романтика северных краев. Однако ни слова не слышал я от него о колымских лагерях. Мы нередко тогда и потом говорили о 37-м годе. Но об этом никогда. Правда, тема была опасная. Но не думаю, что Сергей настолько был со мной осторожен. Скорей всего, не знал о том, что происходило рядом. Как, впрочем, не знали и мы. Или, отчасти, не хотели знать.
В ИФЛИ, как я говорил, очень многие писали стихи. Но некоторые не писали. Это будущие критики. Из них к поэтической компании близко стояли Михаил Молочко [641] Молочко Михаил Денисович (1919–1940) — критик, студент ИФЛИ. Ушел добровольцем на Финскую войну. Убит выстрелом снайпера. См. издание: Молочко М. Д. Жил-был мальчишка: Из дневников, писем, статей, из воспоминаний друзей об авторе, повесть «Весна двадцатая». — Минск: Мастацкая лiтаратура, 1976.
, Исаак Рабинович (Крамов), Лев Коган [642] Коган Лев Абрамович (1920–1943) — ифлиец, погиб на войне.
и несколько других юношей старше меня на курс-два.
Судьба сложилась так, что большинство из них погибло на войне. Миша Молочко — еще на Финской. О нем довольно много писали. Упомянут в воспоминаниях Наровчатова Лев Коган. Это был юноша высокий, худой, со смешным тонким голосом. Влюбленный в Наровчатова и его стихи. Из него рос истинный критик поэзии. Он хорошо чувствовал фактуру стиха.
Втайне мы, поэты, предполагали, что рядом с нами растут «наши» критики. Они о себе думали, видимо, иначе.
В общем, плеяды поэтических критиков ИФЛИ не дал. Много есть филологов, литературоведов, историков литературы, преподавателей. Поэтических критиков из нашего института вышло крайне мало, а ярких вовсе нет.
Исаак Крамов занялся прозой.
ИФЛИ, как известно, помещался в Сокольниках, на тогдашней окраине города, в плохо замощенном Ростокинском проезде. Здание его, первоначально предназначавшееся для селекционной станции, сохранилось до сих пор и удивляет своими скромными размерами. Задним фасадом оно выходит к пойме Яузы, за которой в те времена виднелся довольно густой лес. А на противоположной стороне Ростокинского было несколько деревянных зданий и большой, довольно запущенный в этой части Сокольнический парк. Если ИФЛИ был «красным лицеем», то Сокольники выполняли функцию Царскосельских садов. Средой ифлийского поэтического чувства были Сокольники.
В предвечерних хождениях по Лучевому просеку от института до метро рождалась идея литературного альманаха «Сокольники». Видимо, ища ему поддержку, перед зимой пришли мы в обиталище богов, в писательский дом в Лаврушинском к Илье Львовичу Сельвинскому. Ходоков было четверо — Коган, Наровчатов, Лащенко и я.
Сельвинский был тогда одним из самых знаменитых поэтов. Он был знаменит уже лет десять, а это великий был тогда срок, и потому казался нам патриархом. Мы заробели перед дверью роскошной (опять-таки по тем временам) квартиры в доме в Лаврушинском. Но Павел решительно нажал звонок.
Нас провели в кабинет. Не помню его убранства, ибо внимание было приковано к Сельвинскому.
Пышная блондинка внесла в кабинет чай и сушки. Мы переглянулись: «Голубой песец!» [643] Ссылка на стихотворение Сельвинского «Белый песец» (1932).
Илья Львович просто и доброжелательно заговорил с нами. Будничность угощения и простота Сельвинского нас успокоили. Мы почувствовали, что он добр. И в этом не ошиблись.
Он делал себя, или был на самом деле, или рисовал себя таковым в своем воображении — литературным вождем, полководцем поэтических армий. Конструктивисты распались. Уже твердо наступила эпоха социалистического реализма.
Сельвинский выдвигал идею социалистического романтизма. Он искал сторонников и, наверное, надеялся сколотить себе войско из молодых. Благо, молодых было много, среди них были таланты и никто из них не претендовал на место вождя. Все же, вперед забегая, из модной тогда двучленной формулы «вождь и учитель» мы избрали только второе. Это мы признали в тот же вечер.
Сельвинский предложил почитать стихи.
Начал Павел. Он тут же разделался с овалом и рисовал рукой угол. Он словно и не боялся и читал стихи в своей напористой манере, рубя ладонью воздух и голосом давая петуха. Затем запел Наровчатов. Как всегда, он привлекал своей красотой, развалочкой и тоже своим особым напором. После него Лащенко выглядел бледно. Почувствовав спад настроения у Сельвинского, я пролепетал: «Плотники о плаху притупили топоры». Это был мой единственный козырь.
Сельвинский выслушал нас внимательно, не прерывая. Когда мы закончили, стал разбирать стихи. Он похвалил Павла, похвалил Сергея, похвалил меня. Каждого назвал поэтом. Костю он как-то обошел. Не раздраконивал, а умолчал. Может быть, именно этот факт роковым образом повлиял на дальнейшую поэтическую судьбу самолюбивого Кости.
Мы пили чай с сушками. Не спешили уходить, впивая поучения Ильи Львовича. Мы еще не знали тогда, что надо беречь время и душу поэта, не навязывая ему лишнего общения. Впрочем, может быть, сам Сельвинский не спешил нас выставить.
Мы вышли в полночь в пустынный Лаврушинский. И втроем обнялись от избытка чувств — Павел, Сергей и я. Непризнанный, нерукоположенный Костя обиженно ушел. Но мы почти этого не заметили. Радость эгоистична. А тут как будто решилось для нас самое главное: мы — поэты!
Я не помню, считал ли себя поэтом в ту пору. Разговор с Ярополком Семеновым [644] Семенов Ярополк Александрович (1906–1950) — литератор, в 30-е годы закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Участник войны. В 1948 г. был репрессирован и погиб в 1950-м. О нем — в статье Ольги Рубинчик «Надпись чернильным карандашом» // Звезда. 2012. № 6. О встречах с ним Самойлов написал в ПамЗ в гл. «Из дневника восьмого класса» (с. 131–133).
в восьмом классе открыл мне эту перспективу. Но звание поэта было для меня слишком высоким, и я знал множество замечательных стихов, с которыми и не смел сравнивать свои творения. Поэтом рано стали считать меня мои друзья. Не опровергая их, я внутренне робел, боялся ринуться в поэзию, потому что понимал, что это опасное ремесло, требующее всего тебя без остатка. По природе не будучи склонен к рефлексии и к раздирающим душу противоречиям, я оставлял себе пути для отступления. Я страшился несчастья не быть поэтом. И потому сам себе не признавался в бесповоротности выбора.
Интервал:
Закладка:
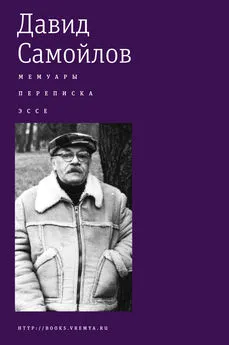




![Давид Самойлов - Ранний Самойлов: Дневниковые записи и стихи: 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/1143892/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres.webp)

