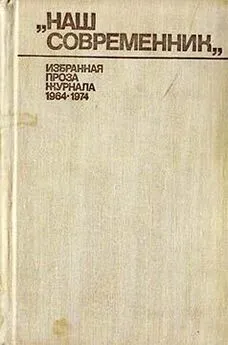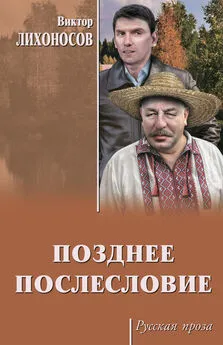Виктор Лихоносов - Когда же мы встретимся?
- Название:Когда же мы встретимся?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Лихоносов - Когда же мы встретимся? краткое содержание
Когда же мы встретимся? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дмитрий ехал в Изборск к Егору четыре дня. В Москве у него не было ни одной знакомой души, и ночевал он на Казанском вокзале на скамейке длинного зала в третьем подъезде, под тяжелой люстрой. Днем от нечего делать потоптал дорожки в Донском монастыре. На Изборск у него было три дня, и он спешил, спешил туда. В монастыре, в троллейбусах и в метро, у кассы, изнывая от ожидания своей очереди, Дмитрий все думал о себе, как бы со стороны оценивал свое положение в жизни, через семь лет после первой встречи с Москвой. «Куда я еду? Зачем?» Где-то далеко его комната, берег, клуб, незавершенная борьба. Вырвался в отпуск на волю, успокоился на родной улице, убаюкался вниманием матери, кривощековскими светлыми вечерами и взаправду, на какое-то мгновение, поверил в свою судьбу, в везение, в непоследнее свое место среди людей, и вот все стушевалось: в поезде еще пел песенки, храбрился, а в Москве сразу же устал, растерялся и загоревал. Что ему отираться-то на съемках? Кто-то занят любимым делом, а ты будешь наблюдать? Несчастливым стоял он всю ночь в тамбуре, до самого Пскова. Но вынырнул из толпы на перроне Егор, и сделалось легче. Как это важно, чтобы кто-то опекал тебя, был охраной твоих дрожащих чувств, — пусть он и ровесник твой. «Ты должен, ты сможешь, ты еще…» — дудел всегда Егор. Кто бы спасал его словом еще? В группе уже все знали, кого на заре встречает Егор. Был пасмурный день. В Изборске, недалеко от Труворова городища, над речкой Бдехой под кручей, снимали «полет первого русского Икара». Надутый дымом кожаный лохматый шар вздрагивал на ветру; веревки, привязанные у земли за крюки автобуса, не пускали его вверх; и под ним, тоже привязанный, телепался мужик с бородой, в котором Дмитрий без труда угадал Мисаила. На эту эпизодическую роль взял его Ямщиков по совету Егора. Репетировали и караулили, когда блеснет солнце. Мисаил продрог, матерился, вознаграждая себя за муки, и еще в перерывах рассказывал анекдоты.
— Мне кажется, я уже пролетаю над Сухаревкой, у кого там есть родственники — скажите, не надо ли чего передать? Пустые бутылки не принимаю.
В Изборске Дмитрий был до того тих, мягок и добродушен, что если бы его увидели те, на кого он кричал на юге, они бы выпучили глаза и сказали бы, что он притворяется. Но он был таким от рождения. В Изборске он всех любил, слушал, набирался ума-разума. Дома не будет рядом ни Егора, ни Ямщикова, ни милейшего реставратора Свербеева. Все еще хотелось в кого-то вцепиться, безоглядно довериться, на мгновение хотя бы сотворить себе кумира.
— Силища мужик! — нахваливал Свербеева Егор. — Душа нараспашку. Прозевали мы с тобой любятовский день! народный праздник, село такое, Любятово, под Псковом, ноги моют, чтобы исцелиться. Иван Грозный ночевал там. Но ничего, Свербеев в Печоры свозит.
Они путешествовали целый день. И в путешествии, слушая Свербеева у крепостных Порховских стен, в аллее толстых дубов у села Дорогини, на опушке усадьбы графа Строганова (везде среди мизерных остатков великолепия и благодати, среди уже векового смирения, запущенности и «божьих слез»), Дмитрий то загорался мечтою покинуть юг и выбрать себе здесь какую-нибудь деревеньку или пристроиться в помощники к Свербееву, то ничтожно зачислял себя в пропащие. Не богата земля плодами, да зато проще, добрее, откровеннее люди. И сколько следов немилостивой истории! В Печорах сидели на закате у монастырской стены и говорили о России. Так хорошо, с душою, и будто невзначай касались всего благочестивого, что поглотилось тьмою забвения и что взяло да и вспомнилось. Большое красное колесо опускалось за лесом. И Дмитрий глядел вокруг и думал, что это тоже счастье — от всего вдруг отвлечься и тесным кружком поговорить о России так, как умели когда-то…
В Архиве Кирилла Борисовича Свербеева хранились бумаги, о которых он забывал. До какой-то поры едва ли смотрели ветхие листки и дети Кирилла Борисовича. Архив накапливался понемножку: частично открылся в портфеле отца, кое-что передавали многочисленные родственники, иное реставратор выписал крупным ветвистым своим почерком в государственных хранилищах. Последние бумаги, «рулоны», которые приметил на шкафу Дмитрий, вручил ему как-то престарелый дядюшка — кому же еще? То были жалованные грамоты, подписанные и скрепленные сургучными печатями государей. Там значились имена предков Кирилла Борисовича.
Странно увидеть свою фамилию, выпирающую прописными буквами из старомодного державного текста! Что должно копошиться при этом в душе, кому и как рассказать о связи с темным XV веком, с Дмитрием Донским, Куликовской битвой через какого-то Акинфа, посеявшего их всех в века? В княжение славного Дмитрия Донского он числился кем-то у духовных князя («вернейший паче всех») и сидел при его кончине. Два брата Акинфа пали воеводами на Куликовом поле. «Тем воеводам при животе честь, а по смерти память». Мелькают имена: в летописях, разрядных книгах, родословцах, мемуарах. Воеводы, ловчие, кравчие, схимники, послы, опальные, вотчинники, опричники, пленники, смутьяны, ученые, геодезисты, инженеры, художники и т. п.
«Пишу завещание детям моим Алексею, Василию, Сергею в первых дабы почитаема была Мать бояться и трепетать как пред Богом. Аще кто чтит отца и матерь долгоденствует. Такъже прошу, дабы меж вами была любовь неполитичная но суще братняя и о сем письме воспомянул для того вставляю дабы меж вами не было по мне вражды…» «…да и во всех наших деяних более надеждою и терпением занимаемся, а очень редко временем пользоваться можем, а большею частию все на словах оканчивается…» (XVIII век)
«…полицыйместера капитана Петра Свербеева от правления в городе Пскове полицымейстерской должности отрешить, на его место назначить отставного подполковника Ананья Васильева Пушкина… 20 янв. 1760 г.».
«…однако же видно, что в вас ни страху Божеского нет, ни жалости об нас, то уже на нас не пеняй. Мы уже совсем от вас отречемся. И розсуди, чего от Бога ждать, кто ты так презираешь родительский приказ. Но верь, сын, что Бог тому не попрочит, хто презирает волю родительскую. Самая моя несносная горесть принудила так писать, и вижу неутешно-горькую нашу старость. И больше уже не жди от меня. Мать ваша г. М. С.» — 1747 г.
Приписка:
«…и я вам, батюшка братец, и вам, матушка невестушка, приношу мой поклон и любезных детей цалую и у батюшки руку. Впротчем, прося о продолжении любви вашея, остаюсь вам, матушка, верная услужница. Е. С.»
«…благонадежный залог ея грядущих судеб».
«…смешав гостеприимство русской старины с образованностью времен…»
«Ночевал я в знакомом флигеле, в тихой успокоительной обстановке, и отрадно было сознание, что находишься в привольном убежище. На душе было легко. В 9 часов утра ударили в колокол и раздался благовест. Колокол напоминал о двойном празднике — о дне воскресном и дне Преподобного Сергия. Народ все подходил и заполнял церковь. Перед большой иконой Преподобного Сергия, прислоненной к иконостасу, горели свечи; «и бысть молчание». Свежий воздух доносился через отверстые двери храма. В 9 с половиною раздался трезвон. Из алтаря вышел диакон, и послышался возглас: «Благословенно царство!» Дети, парни, бабы с младенцами и без оных, мужики в смешанных одеждах прибывали и прибывали. Отрадно было находиться в этот день в среде сочувственной и родной, вдали от тяжких событий столичных. Драгоценны вековыя могучие связи, и не порываются оне безнаказанно. «Се ныне время благоприятно, и ныне день спасения». Все охвачены единым чувством. Ветер бушевал, качая старые липы. Мы вернулись в уютный, теплый дом. Опять те же старые, давно знакомые покои; они переносили в заветный мир дорогого минувшего; но оно не угасло: здесь, на родовом своем корне, растут новые свежие побеги. Отрадно это сознание и утешительно. Оно доказывает, что там, где нет уклонений от основных условий нашего быта, там и в XX веке возможны те же положительные итоги, тот же расцвет местной, тихой и благотворительной деятельности. Пока еще живут эти, увы, поредевшие ныне уголки в нашем отечестве; пока правительством не расшатаны совсем лучшие устои ее спокойного и мирного развития, еще нельзя отчаиваться за будущее. Разрушить наши последние устои не так легко и в земле нашей отчаиваться рано.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
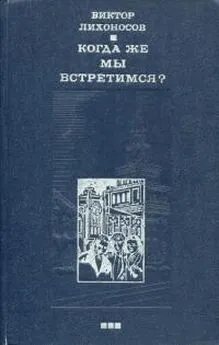
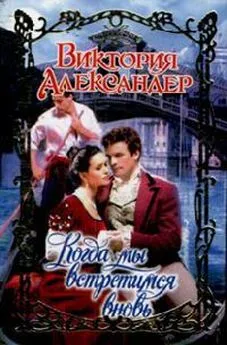
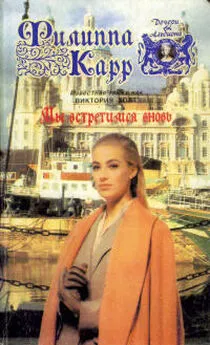
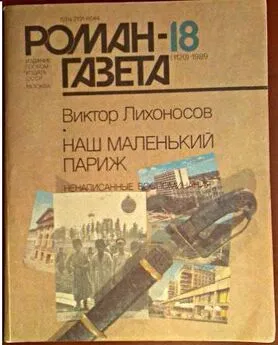
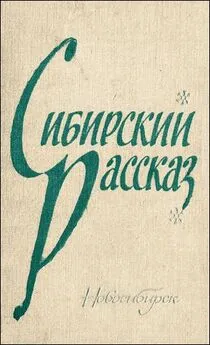
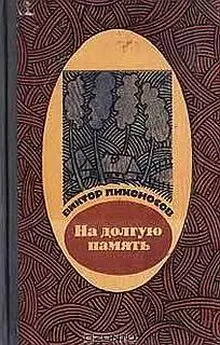
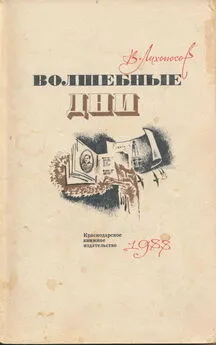
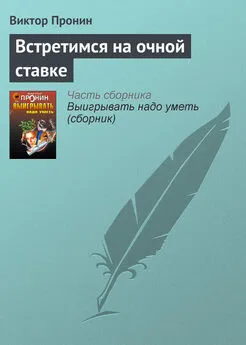
![Виктор Лихоносов - Люблю тебя светло [сборник]](/books/1062967/viktor-lihonosov-lyublyu-tebya-svetlo-sbornik.webp)