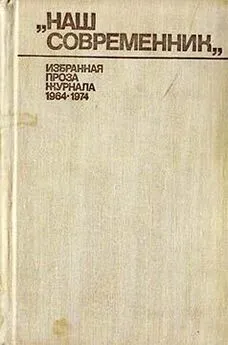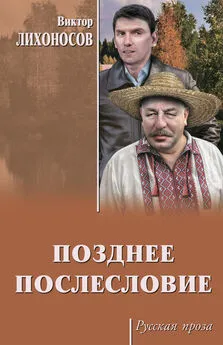Виктор Лихоносов - Когда же мы встретимся?
- Название:Когда же мы встретимся?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Лихоносов - Когда же мы встретимся? краткое содержание
Когда же мы встретимся? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Правильно! Под конец. Но когда я смотрю фильм теперь, я не эмоции свои вспоминаю во время съемок, не недовольство, а поклоняюсь художественному произведению, законченному, сработанному вот так, — вытянул он палец, — был я там или не был.
— Такое впечатление, что из всего коллектива не выбрать человека, который бы знал русскую историю. А главное — чувствовал бы ее. Разве что художница по костюмам. Что вы сделали с духовенством? А? С духовенством, которое не согнулось под татарами. А вы нам кого показали? Ублюдков? А художник? Неужели это ничтожество могло написать такие светлые фрески? Да хоть в глазах, — Дмитрий свирепел и повышал голос, — да хоть в чем-то проблеск какой, душа, озарение, ну не знаю что! чем-то хоть на столько покорил бы нас. И неужели он только и шел, шел по грязи, видел всюду одну грязь, ложь, насилие, резню? Откуда же тогда такие радостные фрески? Хоть один раз посетил его восторг?
— А языческий праздник?
— Голые бабы, что ли? За три рубля у вас там бегали они? Не знаю! Я представляю, как это естественно было тогда, а у вас какой-то свальный грех! Не знаю! У вас там на снегу женщина мочится.
— В дублях.
— Коров на костре жгли! Палачество. Боролись с жестокостью? Чем же? Жестокостью же. Как же это, милостивый государь? Цель оправдывает средства? Добро должно быть с кулаками? Да вы побудьте добры без кулаков, покажите его через милосердие, просто добро, и все. Какого там гения мог родить этот несчастный затурканный народ? И ничему не веришь. Разве такой была Русь?
— Ты как в этом… в одной районной газете… Когда какую-то Клаву спросили, почему она выбрала профессию парикмахера, она ответила: «Хочу видеть всех красивыми». Нельзя же так.
— Не было тогда величия в вашей душе…
— Боюсь за тебя, Димок, — сказал Егор наставительно.
— Почему?
— Куда-то не туда ты пошел. Это все влияние чье-то.
— Опять влияние! Да что ж ты мне отказываешь в самостоятельности? Ты уж давно ничего не читаешь, кроме глупых сценариев, отстал, держишься на интуиции, а как что скажи — «темный», «глупый».
— Боюсь я… — опять предупредил Егор. — Боюсь, заведет тебя эта мысль, вытащат тебя, разденут и выпорют. Не назад глядеть надо, надо как-то в этой жизни крутиться, строить.
— О, демагог, о, какой демагог, зараза. Я ему то, он мне это.
— Боюсь… Я поражен!
— Я больше поражен, а терплю.
— Боюсь, боюсь. Откуда в тебе это? С чего бы? Ты ж крестьянин! У коровы в стайке навоз чистил. Приду, бывало, в драмкружок звать, а где Димка?? «В стайке навоз откидает». И на тебе: полез! С чего, почему — не понимаю! Ну, Свербеев — понимаю, Ямщиков — понимаю, а ты-ы-то?
— Я не могу себе простить, — клялся Дмитрий так горячо и с той злостью, которая допустима лишь в старой дружбе, — что всю юность молился на этого нехристя, тянулся за ним: какой друг у меня великий! А он дерьмо, отсталый человек.
Егор улыбался.
— Дим, — положил Егор руку на его колено, — Дим, Дим, обожди, не вопи, чадо, зде… Послушай, ты послушай. Да ты послушай, скотина! Дим. Я знаешь чо думаю сейчас? Сколько раз я тебе писал: ни черта мы друг друга не знаем! Ну ни черта ты во мне не понимаешь А я в тебе. Мы с разных сторон ходим вокруг одного и того же. И уже без подначки не можем общаться. Ты меня не слышишь, я тебя. И что еще, почему я тебя не воспринимаю сегодняшнего. Дима, — приподнялся он и стал ласков, как только мог, — ласточка ты моя, ты послушай меня, скотина. Ты для меня всегда был живой, безумно интересный, с воображением, когда ты кого-нибудь изображал, когда мы в станице с тобой берег рисовали — вдруг мне вчера это так дорого стало, детское, очень простое, — ты был сам собой. А тут ты полез — мне кажется, я не уверен — полез куда-то не в свое, не твое это, понимаешь, не тебе гореть на этом костре. Ну если не гореть — что поделаешь!
— Эх, Егор, Егор, — опечалился Дмитрий. — Если уж снимаешься в историческом фильме, то надо бы про Сергия-то Радонежского почитать! Почитать, почувствовать. А у вас интуиция, на все заранее ясный догматический взгляд. Это плохо, это отстало, это… В восемнадцать лет ездил народ изучать, а теперь водку пьешь, на гитаре играешь — промотал свой талант.
— Может быть…
Мать Дмитрия, Анастасия Степановна, проснулась и с испугом спросила:
— Вы что, подрались?
— Да нет, мам, это у нас разговор такой.
Они вышли на крыльцо и закурили.
— Может быть, Димк… — подтвердил Егор упрек друга. — Говорили моряки в старое время: «Сундук адмирала Лазарева три раза обошел вокруг света, но так сундуком и остался!» Про меня. Мне еще два раза можно. Я на банкете надрался, призывал всех кино бросать.
Такое с ним действительно было. И он громко, нарушая обет не уснащать свою речь грубыми восклицаниями, тарахтел о зимнем вечере в кругу «изборцев», о своих сомнениях. Другу можно было сказать все.
— Сейчас уж всего точно не помню, — говорил Егор, — но на дне рождения Ямщикова Панин закатил такую речь. Компания собралась своя, а что-то не ладилось, посмеивались друг над другом, как вот мы с тобой, но тонко, с намеками, упрекали в тостах, в общем, легкий давнишний разлад. Тогда Панин встал и сказал (помню приблизительно, он говорил блестяще): «Друзья мои! Мы проводим прекрасный вечер. Да-а, прекрасный. Пу-сть, пусть в отличие от прочих компаний, где всегда подчеркнуто-вежливое единство, пусть у нас чувствуется в подземных этажах нашей беседы некоторая разноголосица, неприятие, мы обмениваемся стрелами… Мы страдаем от этого. Но упаси нас боже быть другими! Если мы будем тем стройным муравейником, в котором каждый знает, что и куда несет и все похожи один на другого, — тут мы и погибнем! Иными быть мы не можем. Мы живем в вечном разладе, но есть что-то выше наших неприятий, — это, может быть, наше лицо, наша самость, неповторимость. Мы счастливее!» Когда так красиво (со страданием в голосе причем) говорят, хочется встать, обнять, поцеловать, поклясться в вечном братстве. Так и было. Заорали, встали, чокнулись, сблизились, а разошлись и принялись обсасывать косточки друг друга, называть «чудовищем» того, того. И мне горько от такого вот поведения. Зачем? И сам Панин: что он! — говорит, воодушевляет, а в душе нет простого чувства товарищества. Ох, Димок, не дай бог так жить нам. Грыземся, и хорошо, но мы друг без друга не можем. Как ты мне нужен иной раз! Думаю: ну был бы он со мной, снимался — то ли дело! Надоела ложь — простая, обыденная, в самых малых отношениях. Чего-то хитрят, мудрят друг перед другом, выглядывают, вынюхивают. И тут же рядом снимают о добре, о красоте души, спорят, ищут ракурс, «подайте глубже», «скажите теплее». И почему я стал чувствовать в кино, что пропадаю? Идей тьма, а личности нет. Человека нет. Мало! В искусстве без друга тоже нельзя. Микеланджело сказал? — забыл. Есть же обыкновенная повседневная человечность. Так будь же с душой! Горсточка, горсточка, к кому хочется подсунуться, побыть с кем. Мне жалко было Ямщикова на банкете. Может, потому и ору я так на тебя. Не знаю, не знаю. От умных речей циников меня тошнит. Простоты хочу. Я становлюсь какой-то игрушкой в руках мастеров, холодных, умных, во вся святая святых проникших и… как говорил Мисаил: «Я что-то знаю, а вам, дуракам, не скажу». Как будто иду мимо жизни. А ты меня ругаешь — я истории не знаю. Я уже ничего не знаю. Ничего не пойму! Или я дурак, или весь мир не такой. Как сказку вспоминаю Казахстан! Там мне все понятно было: мост перекинули через реку, так это ж мост, его не подделаешь! Пропадаю, Димок…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
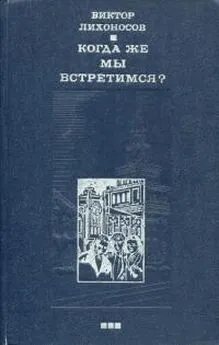

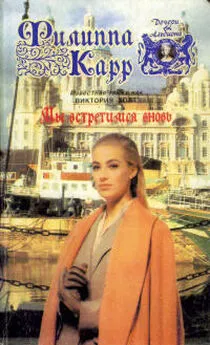

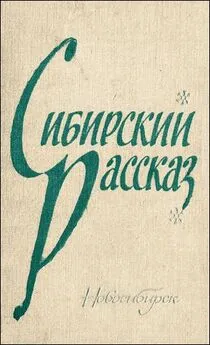
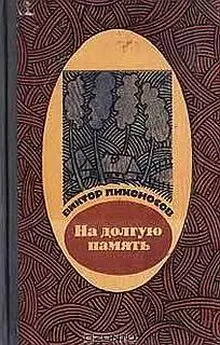
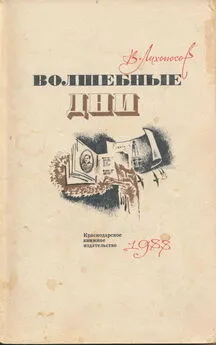
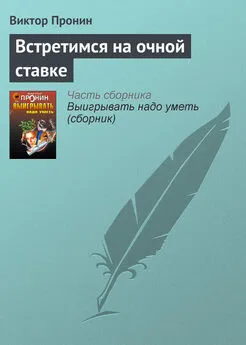
![Виктор Лихоносов - Люблю тебя светло [сборник]](/books/1062967/viktor-lihonosov-lyublyu-tebya-svetlo-sbornik.webp)