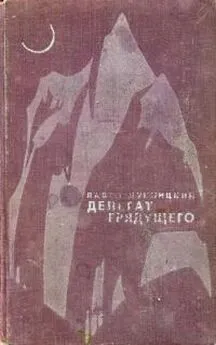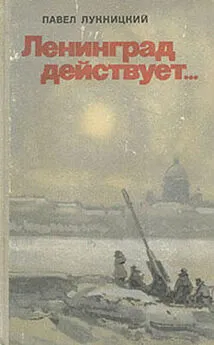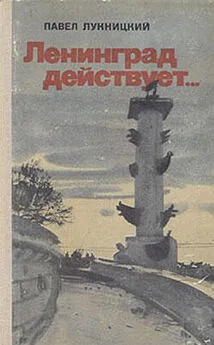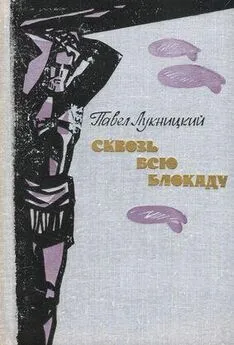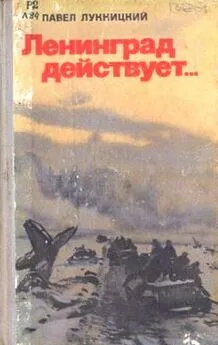Павел Лукницкий - Делегат грядущего
- Название:Делегат грядущего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Лукницкий - Делегат грядущего краткое содержание
Выпуском этой книги издательство отмечает семидесятилетие со дня рождения и пятидесятилетие творческой деятельности Павла Николаевича Лукницкого — свидетеля Октябрьской революции в Петрограде, участника гражданской войны, борьбы с басмачеством в Средней Азии, защитника Ленинграда в течение всей немецко-фашистской блокады, прошедшего затем с армией-освободительницей славный путь победы до Белграда, Будапешта, Вены и Праги.
В числе многих литературных произведений, созданных П. Н. Лукницким, широко известны его романы «Земля молодости» и «Ниссо», трилогия «Ленинград действует», сборники повестей и рассказов «Всадники и пешеходы», «За синим камнем», «На берегах Невы», книги «Путешествия по Памиру», «Таджикистан» и др.
Делегат грядущего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Еще до открытия конференции я оказался однажды в ташкентской консерватории. Цейлонцы, с бритыми головами, в ярких оранжевых тогах, окутывавших их от плеч до голых коричневых щиколоток, в сандалиях на босу ногу (позже я узнал, что оба цейлонца имели высший священнический сан, обязывающий их быть одетыми так); индийцы в синих, бордовых и белых тарбанах, или белых шапочках «ганди-кэп»; камбоджийцы и сирийцы в модных европейских костюмах, африканцы — каждый в своей национальной одежде, — проходя к концертному залу по коридорам консерватории, внимательно осматривали портреты композиторов и учебные плакаты, и студенческую стенгазету, и витрины с фотографиями…
Все иностранцы вглядывались в восторженные глаза узбекских и русских девушек-студенток, теснившихся к стенам, чтобы пропустить гостей мимо себя. Сами казенные коридоры в эти минуты мне казались освещенными светом невысказанного, но светящегося из глаз гостеприимства, каким была полна наша советская молодежь.
Затем шумно и говорливо гости рассаживались в зале кто где хотел, вперемежку со студентами, преподавателями, переводчиками.
Устроившись в креслах, гости пытливо разглядывали лица здешних людей и архитектурные детали зала, и сцену, и занимавший всю ее глубину серебристый, длиннотрубый орган.
Я, никогда прежде не обращавший внимания на одежду нашего студенчества, оценивал теперь покрой пиджаков, расцветку галстуков. Пусть иные из европейских снобов про наш ширпотреб язвят: «не модно, не элегантно скроено»… Но здесь сидят гости иного толка. Как хотелось бы многим из них, чтоб их сыновья могли шить себе бостоновые костюмы! Да и что говорить: в какой из колониальных стран молодежь имеет возможность учиться в своей национальной консерватории?
Почти рядом со мною, в одном ряду, оказалась писательница Ганы — Сесиль Макхарди, переводившая внимательный взгляд от лица к лицу юношей расположившегося на сцене симфонического оркестра. Разнородные инструменты молчали в руках студентов, потому что в эти минуты, стоя у дирижерского пюпитра в прекрасном сером костюме, рослый и солидный, с уже седеющей головой, вел рассказ о музыкальной жизни Узбекистана композитор М. Ашрафи, оперу которого «Дилором», написанную по мотивам знаменитой поэмы Алишера Навои, многие гости слушали в лучшем ташкентском театре накануне вечером.
Сесиль Макхарди, высокая, стройная, с обаятельным лицом молодая женщина, была в жакете, сшитом из тонкой ослепительно белой шелковой ткани, подчеркивавшей природную глубокую смуглоту ее коричневой кожи, в белых узконосых туфлях на высоком каблучке, в серой юбке-шотландке, с тонким браслетом золотых часов на руке. Делая редкие записи на листке зеленого, раскрытого на ее коленях блокнота, она слушала перевод слов Ашрафи…
Особенный, выразительный блеск ее черных умных и добрых глаз, горделивый постав ее головы, правильная линия высокого лба, маленькие губы, строгая пропорциональность всех черт лица заставляли меня думать о том, что она, коренная африканка, ничем не напоминает мне привычный, по прежним моим представлениям, облик женщины Африки, негритянки, — в ней чувствовалась та классическая благородная красота, какая могла быть выработана народом веками свободным, счастливым и независимым — таким, какими были культурные народы Африки в древности…
И в этот раз, и всегда позже, я получил эстетическое удовольствие, глядя на эту прекрасную представительницу страны, сбросившей путы колониализма, — теперь вновь действительно независимого государства Гана…
Следя за выражением ее глаз, когда Ашрафи называл великолепные цифры, характеризующие музыкальную культуру Узбекистана («…тридцать шесть музыкальных школ, пять музыкальных училищ, две музыкальные школы-десятилетки, консерватория, филармония — объединяющая больше восьмисот исполнителей…» и т. д.), я уловил выраженную в смело сверкнувшем взоре мечту о том же самом, — там, в родной для нее, а для меня неведомой Гане!
Но не я один наблюдал за нею. Случайно обернувшись, я увидел позади себя завороженные, будто наэлектризованные мальчишеские глаза того самого узбека-подростка — Улуга! Он неотрывно следил за выражением лица Сесиль Макхарди, так, как может следить только влюбленный… Именно так — не глядел, а самозабвенно созерцал он ее короткие, черные курчавые волосы, ее вдруг обнажившую ровные белые зубы улыбку, ее тонкие темно-коричневые пальцы, в которых держала она синий цанговый карандаш, и кольцо на левой руке, желто-розовый длинный овальный камень в золотой оправе, закрывающей всю фалангу пальца, красивые ногти — не полированные, не крашеные, но естественно розовые, от просвечивающей сквозь них алой крови.
Теперь меня интересовало только выражение мальчишеского сосредоточенного лица Улуга. Он смотрел на Сесиль Макхарди, как на чудо. Почему именно способен он был смотреть так? Вдруг сосредоточенность, напряженность схлынула с его зардевшихся щек, он счастливо улыбнулся, лицо его стало простодушным, детским… Глянув на Сесиль Макхарди, я увидел в ее левой ладони горсточку кишмиша, — двумя пальцами правой руки, словно клюя кишмиш из ладони, она отправляла изюминку за изюминкой в рот, не зная, не замечая, что за ней напряженно и внимательно наблюдают два человека…
Грянул оркестр, мои наблюдения были смыты торжественным звучанием Бетховена. Студенческий симфонический оркестр исполнял третью часть первой его симфонии…
Как, зачем, почему Улуг оказался здесь? Кто же он — чей сын, где учится и что делает? Почему с таким недетским интересом и вниманием изучает — конечно же изучает! — прибывших в Ташкент гостей? Чего хочет? Чем полна его пытливая, маленькая душа?
На этот раз я всерьез заинтересовался им. И пока длилась величавая симфония Бетховена, испорченная назойливым стрекотанием киноаппаратов, раздражающими вспышками фотографических ламп, жаром слепящих глаза бесстыжих юпитеров, я несколько раз оглядывался на Улуга, теперь задумчиво слушавшего, должно быть, непривычную ему музыку.
Кто-то, кажется Ашрафи, громко произнес, когда симфонический оркестр замолк:
— Бетховен, конечно, не рассчитывал на аккомпанемент фотоаппаратов!
Улуг засмеялся, захлопал в ладоши. И тут не сосредоточенным, а оживленно веселым стало его худощавое смуглое лицо, когда грянул узбекскую мелодию оркестр народных инструментов и соло на нае исполнял студент консерватории, чья названная со сцены фамилия была, если не ошибаюсь, Рахматов.
Выходя из зала после концерта, я догнал Улуга, положил руку ему на плечо, спросил:
— А где сейчас Мишка?
Улуг, кажется, вовсе и не удивился вопросу незнакомого ему человека:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: