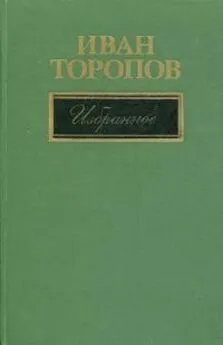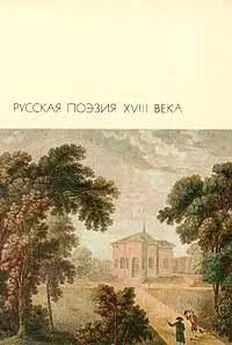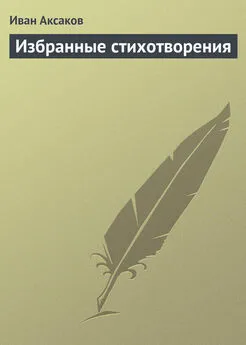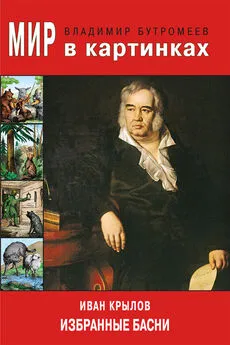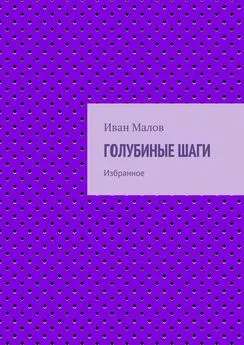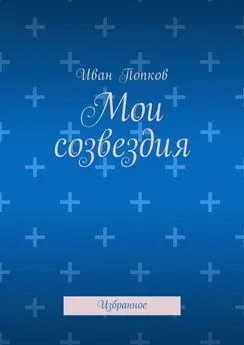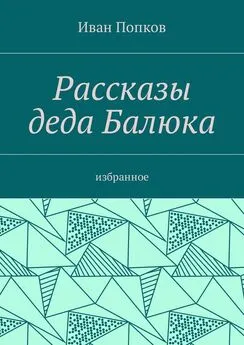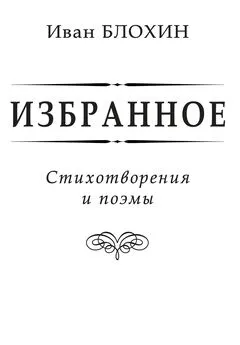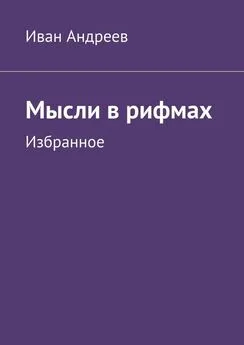Иван Торопов - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Торопов - Избранное краткое содержание
Судьба Феди Мелехина — это судьба целого поколения мальчишек, вынесших на своих плечах горести военных лет.
Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уже больше двух месяцев идем мы вместе с Сысолой к устью. Спим и живем рядом с рекой. Вместе с рекой трудимся. Самым дорогим другом стала для нас Сысола в это погожее лето. Река кормит нас, поит, радует живой краской… Живая вода Сысолы подымает траву на заливных лугах, мы рвем щавель, собираем грибы, ягоды…
К концу лета и Сысола устала. Жара иссушила русло, река опала телом, обильные пески выступили теперь на вчерашнем стрежне. Через иные перекаты реке недоставало сил перебросить особо крупные бревна, и они оставались ждать высокой воды. Но иссохшая, исхудалая река продолжала работать, несла бревна, держала на себе наш плашкоут.
Сысола знакомила нас с новыми селами, с новыми людьми, что приходили из этих сел.
Подумать только: сколько сел, как ягод на нитку, нанизано на Сысолу, сколько коми людей от рождения связано с этой рекой. Койгорт — Койгородок, Ужга, Грива, Палаззя — Палауз, Поел, Визин, Куниб, Межадор… И все они — не на одну версту. А самое длинное коми село, с самым коротким коми названием — Ыб — вообще километров на пятнадцать тянется.
А сколько из этих сел людей вышло в большой мир?.. Скольких вскормила и вспоила Сысола наша…
Каждое село присылало в караванку своих людей, и все они чем-то отличались от прочих: и разговором, и повадками… Гривенские, например, пришли с пестерями. А у нас в Койгородке не плели пестеря, но из той же бересты кузова мастерили. Гляди-ка, расстояние — тридцать километров всего, а занятие иное, и интерес иной. В разговоре от наших, койгородских, многие отличались. Наш скажет: муниныз! — пошли! Палаузский: мунисны! Наш скажет: эддьэн бур — очень хорошо. Палаузский: зэл бур. Наш скажет: чапкыны — бросить. Палаузский: шыбитны…
Как-то вечером завелся такой разговор. Поелдинские (еще двадцать километров за Палаузом) захвастали своими швецами, дескать, их мастера аж до Сибири ходили, Сыктывкар обшивали, и везде их принимали-знали. Зато и домищи себе отгрохали…
Визинские подняли поелдинских на смех — у нас сплошь кузнецы в десять колен, и мы молчим в тряпочку, а тут швецами выставляются…
— А у нас, в Ужге, коли зачешется в одном месте — говорят: в Палаузе масло подешевело…
Другие хвалятся каталями из своего села, знаменитые валенки катали, нарасхват были. А у нас… — говорят. А у нас… — вспоминают.
Я слушаю веселую перепалку своих товарищей и думаю: смех смехом, а ведь так и складывается жизнь моего народа: кто шьет, кто кует, кто кошевки делает.
Интересно и удивительно нам слушать друг друга, хвастать умением своих отцов, дедов и прадедов, и села сравнивать — чье красивее стоит на земле. Незлобиво дразним мы друг друга, едкими старыми словечками подначиваем: гривенские — «пестерники», визинские «лятьи»: ком сырой глины. Дразнилки у всех на языке, но не мы их придумали, исстари так повелось, потому и нет взаимной обиды. Сысола всех нас соединяет.
Был в моей бригаде паренек из села Кибры. Вспомнили, как дразнят Кибру: киберский шушун и штаны с веревкой.
Парень терпеливо переждал общий наш смех, потом тихо сказал:
— В нашей Кибре Иван Куратов родился.
Мы все разом поперхнулись своим смехом.
Я ребенком в люльке
Слышал говор милый, —
Не забыть мне это
До самой могилы…
Да… это не валенки, не телега. Стихи и песни Ивана Куратова у всех в памяти. Иной и не знает, кто слова придумал, — поет, и все. Но ведь это и хорошо, песня-то народная получается.
Начались дожди. Это уже не безобидные летние дождички, а нудные осенние ливни. Теперь уже и сверху и снизу вода; багор выскальзывает из рук, ноги скатываются с бревен, скользких, как налимы.
И ночи стали темные, едва различаешь бревна в черной воде. Правда, на воде все же светлее, чем на берегу, но все равно — система Пеопана: девять часов работы и девять отдыха — уже без пользы. Белыми ночами еще куда ни шло, мы и не роптали, гнали и гнали караванку, торопились, вовремя прошли верховья, более опасные, быстро обсыхающие, со множеством перекатов и мелей. Но теперь, пожалуй, пора было отказаться от этой системы.
В один из вечеров, часов в десять, мы как раз заканчивали смену. Темень, ветер, дождь… До караванки работой дойти не успели, пришлось пробираться к ночлегу через полуостров, напрямик. Курья разлилась здесь широко, загородила дорогу. Бегаем мы, насквозь промокшие, по берегу, ищем впотьмах, где перейти курью. Далеко внизу по реке огнями манит нас плашкоут. Там тепло, там горячая каша, там сухая одежда, но — как ни кричи — нас не услышат. И лодки, как нарочно, нет, днем угнали к плашкоуту.
Обогнуть бы курью — но места-то незнакомые, кто ее знает, насколько она вклинивается в лес. Может, на многие километры.
Кто-то из ребят вспомнил, что летом курью можно было перейти вброд, по колено. Но как ночью найдешь этот брод, в незнакомом месте?
— Пикон, — позвала Зина, — ты у нас самый длинный, поискал бы броду… — Зубы у Зины стучат, совсем замерзла девка.
— Шеть, — пробурчал Пикон мрачно, — сама лезь… Или вон, начальство пусть ищет… Я еще жить хочу.
Наверно, Пикон в эту минуту подумал: хорошо, что не его бригадиром выбрали, теперь есть на кого отмахнуться.
Начальство здесь только я.
Фуфайка на мне насквозь мокрая, но все же в ней теплее, без фуфайки просквозит так, что никакой «керосин» не спасет…
Ничего не поделаешь, придется лезть. Перехватываю багор поудобнее и, не снимая кирзовых сапог, вхожу в курью. Тыкаю багром впереди себя, влезаю помаленьку в черную, как деготь, воду.
Ребятам говорю, чтоб покрикивали время от времени, чтоб я в широкой курье не сбился, не кружил, чтоб держал одно направление. Довольно долго иду по мелководью. Потом дно пошло вниз, но сворачивать я не стал — все равно мокрее воды не будешь. Стою, думаю, как быть дальше. Может, вернуться? А если я сейчас на самом глубоком месте? Еще два-три шага, и полезу опять на мелкое — наверх, на другой берег?.. И вроде совестно возвращаться ни с чем. Вот, скажут, бригадир называется, курью не сумел перейти…
Ладно. Поплыву, если что… Потом — бегом до караванки, за лодкой. А может, кто знающий найдется, из местных, переведет ребят. Они же стоят сейчас на берегу, под дождем, мерзнут, ждут. Бригада моя…
— Федя-я! — кричит Зина сквозь ветер. — Где-е ты-ы…
— Ту-ут! — отвечаю я и начинаю плыть, загребая одной рукой. Сапоги и фуфайка тянут вниз. Снять надо было… Вот… бросился, будто водяной толкнул… Все у меня так… будто толкают… водяные да лешие…
Плыву. Одной рукой пытаюсь измерить багром глубину.
Не достает багор!
И вдруг испугался я, только теперь по-настоящему испугался: уже не держит меня вода, надо бросать багор и плыть.
— Э-ге-е… — кричу я товарищам, чтоб понять направление. Ведь если меня развернуло, пока плыл, то не найти мне берега вовсе, поплыву вдоль по курье и утону.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: