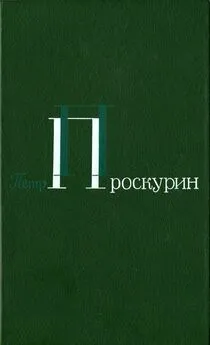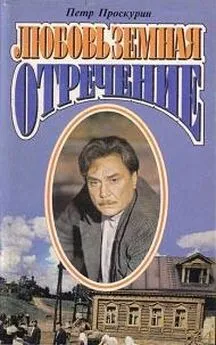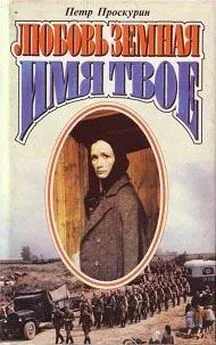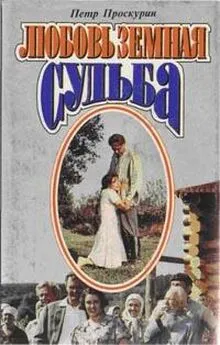Петр Проскурин - Том 1. Корни обнажаются в бурю. Тихий, тихий звон. Тайга. Северные рассказы
- Название:Том 1. Корни обнажаются в бурю. Тихий, тихий звон. Тайга. Северные рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Проскурин - Том 1. Корни обнажаются в бурю. Тихий, тихий звон. Тайга. Северные рассказы краткое содержание
Том 1. Корни обнажаются в бурю. Тихий, тихий звон. Тайга. Северные рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ты спички взял?
Володька хлопает себя по карманам.
— Взял.
— На еще мои.
Он молча берет и стучит лыжами. Пока темно, но скоро должна взойти луна.
— Ждите завтра к обеду.
Он не прощается, а яростно, необычно сложно матерится. Я возвращаюсь в палатку и подхожу к Ефиму.
Никто не спит: все при малейшем шорохе поднимают головы и смотрят в одну сторону. Если переговариваются, то шепотом. А я совсем не могу разговаривать. Время от времени я беру мокрую тряпку и смачиваю Ефиму черные, пересохшие губы. Все молчат, только голос Ефима звучит громко. Мы слушаем его бессвязные слова, и перед нами возникает жизнь, о которой мы, оказывается, ничего не знали. Ефим вспоминает Урал, станки под открытым небом, мороз, от которого пальцы примерзали к железу. Он вспоминает Нанкина и вдруг…
— Марийка, — говорит он, — я знаю, у нас будет дочка. Хочу девочку, пусть… на тебя похожа… Марийка…
Я опять смачиваю тряпку.
— Нет! — кричит Ефим. — Чушь, не хочу…
Он силится оттолкнуть мои руки и стонет.
— Молчи, — говорю я. — Лежи смирно, тебе нельзя.
— Нанкин подлец, Марийка. Ты мне веришь? У подлеца много дорог, у честного только один путь… Ты мне веришь, Марийка?
— Да, — выдавливаю я. — Да. Молчи.
Цыганок срывается с места, выскакивает из палатки, и я слышу хруст снега у него под ногами. Он возвращается через полчаса, долго сморкается и опять лезет на свое место.
Тянется ночь. К рассвету начинает гудеть тайга, поднимается ветер. Ефим бредит и слабеет, и мы в отчаянии. Голова тяжелеет, я часто, испуганно вскидываю ее. Я не могу разрешить себе уснуть и все же начинаю дремать. Но тут же вскакиваю, потому что слышу голос Ефима, он поет. И я вижу людей вокруг — всю нашу бригаду. Ефим поет: «Горит свечи огарочек…» — и это уже не похоже на бред. Впервые за много часов он открывает глаза и смотрит прямо на меня. Потом просит:
— Спирту.
Мы переглядываемся, потом Цыганок подносит чуть ли не полный стакан, еще раз оглядывает всех, осторожно приподнимает Ефиму голову.
Ефим делает несколько глотков и обессиленно откидывается на подушку, а мы в страхе ждем. Он опять открывает глаза, снова останавливается на мне. Силится улыбнуться, и мне хочется крикнуть: «Не надо!» Он говорит:
— Вы того… если что, ребята, помогите Марийке.
Он говорит всем, но смотрит только на меня; и я впервые замечаю, какие у него глубокие и умные глаза. Мне чудится в них усмешка, и я готов провалиться, только бы не смотреть сейчас в эти умные, все понимающие глаза. Они проникают насквозь, они видят все, в чем я не признавался даже себе, и мне мучительно стыдно. Но я не могу отвернуться, не имею права. Я смотрю и стискиваю зубы, и от напряжения у меня выступают слезы.
— Брось ты, старик, — слышу я голос Васи Цыганка. — Ты еще на земле потопаешь, скоро Володька вернется с врачом. Он с вечера ушел. Ты слышишь?
— Слышу, — отвечает Ефим и закрывает глаза.
У него начинает розоветь лицо, и он больше не бредит. Покачиваясь, выхожу из палатки. На меня обрушивается ветреный рассвет и рокот трактора.
Мы возвращаемся в поселок на другой день голодные, замерзшие и злые. Врач, старик в очках, ничего обнадеживающего не может сказать. Он торопится: Ефима нужно срочно оперировать, и только потом станет все ясно.
Нас не встречают ни приветствиями, ни речами. Мы не совершили никакого подвига. Из дверей конторы торопливо выходит Нанкин, он уже знает обо всем.
— Вот несчастье! — говорит он, пряча глаза. — А Марийка-то родила три дня назад. Мальчишку.
Мы смотрим на машину, увозящую Ефима, и молчим. Нанкин опять забегает вперед.
— Давайте, ребята, в контору. Вам тут премиальные выписаны.
— Уйди, гад! Неужели не понимаешь? — цедит сквозь зубы Володька Козлов.
— Что? Что? — испуганно вскидывается он, глядит мне в глаза, бледнеет и исчезает.
Мы стоим все пятеро и молчим. Мы думаем об одном: кто-то из нас должен решиться пойти к Марийке. И потом я чувствую, что все смотрят на меня. Никто не верит в смерть, но пойти к Марийке придется.
Вдали голубеют сопки. Они теперь дальше, чем вчера, а для меня — рядом. Я пойду и расскажу, расскажу обо всем. Я не пожалею себя, все скажу Марийке.
Я киваю Цыганку, Володьке, остальным и задерживаю взгляд на сопках. Что бы там ни было, но дорогу мы к ним проложили.
ЧЕРТА
Слышался непрерывный плеск воды, она неровно и несильно шлепала в днище и в низкие борта баржи, и ветер наносил иногда с берегов летучие запахи осенней тайги, сырости, погибавших грибов; кстати, их в этом году было особенно много.
У Воромеева начиналась тоска, сказывалась трехмесячная однообразная работа исключительно среди мужчин, и особенно стало неспокойно с неделю, с тех пор как в кармане очутились при расчете за сплав невиданные досель деньги, больше полутора тысяч рублей; хоть и погорбили почти четыре месяца, но заработали хорошо и возвращались домой в том приподнятом настроении, когда все друг другу хоть немного да нравятся. Просторная баржа — общежитие с рабочими сплава — поднималась по реке, развозя людей в свои леспромхозы, и с наступлением сумерек где-нибудь в удобном месте останавливалась на ночевку; река уже в конце августа, с началом заморозков в горах, стала мелеть, и катер, тащивший громоздкую, в два этажа, баржу, часто выбивался из сил, неуклюже тычась в разные стороны, старался найти проход на мелководье. К началу второй недели на барже из ста семидесяти человек осталось пятьдесят восемь, из самого дальнего — Верховского — леспромхоза. Стало еще прохладнее и малолюднее, двигались вверх теперь совсем куриным шагом, километров сорок в день. И Андрей Воромеев, всего год назад отслуживший в армии, начинал чувствовать все большее раздражение от безделья, от сытой и обильной пищи, от бестолковых и беспорядочных разговоров и никак не мог дождаться конца пути, хотя и оставалось дней пять-шесть, не больше. Он и сам не мог сказать, почему его так тянуло в поселок и какое отдохновение в своей тоске он думал там найти: ведь и там его ждало шумное общежитие, кинокартины двух-трехлетней давности, несколько молодых незамужних женщин и девушек, которые чисто по-женски пользовались своей малочисленностью и держались броско, вызывающе.
Воромеев стоял на носу баржи и, сузив глаза, всматривался в набегавшую воду; в лицо бил ветер, впереди метрах в пятидесяти трудно работал катер, борясь со стремительным течением; буксирный канат то натягивался, то провисал в воду; за каждым новым поворотом реки берега становились все нелюдимее и диче, каменные осыпи, голые скалы перемежались тайгой, хлюпкими провалами тундры, небольшими горными речками и протоками. Команда катера, вероятно, уже присматривала место для ночевки; Воромеев хорошо видел капитана, стоявшего рядом с дверью в рубку с правой стороны и оглядывавшего берег. Местами, особенно если их сдавливали каменные подножия сопок, берега совсем сужались, катер в таких местах продвигался не больше двух-трех километров в час, и буксирный канат начинал гудеть от напряжения; все уходили с носа, боясь обрыва.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: