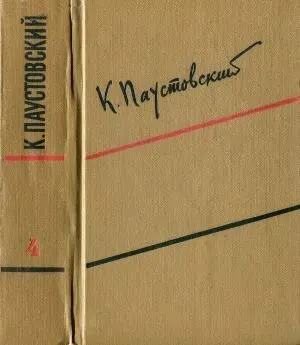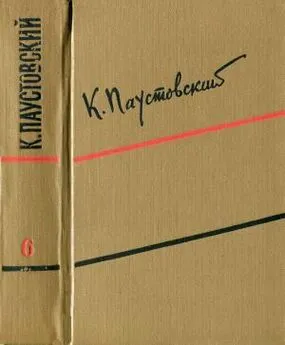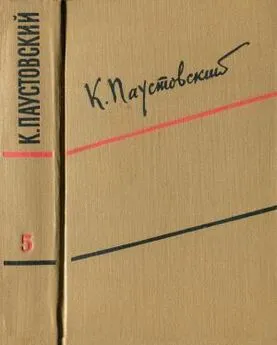Константин Паустовский - Том 9. Письма 1915-1968
- Название:Том 9. Письма 1915-1968
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1986
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Паустовский - Том 9. Письма 1915-1968 краткое содержание
Том 9. Письма 1915-1968 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приеду числа 16-го. Увидимся. Не знаю, застану ли в Москве Нину. А Ава, как всегда, чудесная.
Хожу в лес по грибы. Прорва белых и подосиновиков. Здесь все время яркие и прохладные дни, безветрие<���…>
Как роман? Не огорчайся из-за сроков — пес с ними, со сроками, раз есть великолепный роман. А начать печатание в журнале в течение двух лет — это даже любопытно — случай беспрецедентный в истории российской словесности, — материал для литературоведов.
Целую всех — Дору, Аву, Нину. Привет Саше.
Обнимаю тебя. Твой Коста.
Саммиру — большой привет и Коле тоже. Зря Саммир отчаивается из-за нахватанных троек. «Все будет хорошо».
1947 г.
Я уверен, что Вы знаете, в чем заключается сила художественной прозы, что ее создает и что ее двигает. Это — воображение, основанное на реальности. Писатель — не фотограф, и принцип натуралистического изображения действительности не является подлинным искусством.
Только с этих позиций и следует оценивать те два рассказа, которые вызвали Вашу негодующую статью.
Что вызвало это негодование?
1. То, что заповедный лес на реке У смани назван «последним на границе донских степей». Здесь у Вас — добросовестное заблуждение. Слово «последний» употреблено обобщенно, так как леса Воронежской области (о которых я, кстати, знаю) — последние острова лесов на границе степей. Мне, как писателю, важно передать это ощущение последних лесов, ощущение внезапного перехода лесов в жаркую и бескрайнюю степь. Чего же Вы хотите? Написать «один из последних»? Вы сами понимаете, что эта точность снимает силу впечатления, какое я должен вызвать у читателя.
2. Пейзаж, на который Вы ссылаетесь, совершенно точен. Вам не нравятся, очевидно, «острова старых усадебных садов». Но — это действительность, и с этим ничего не поделаешь. Кстати, Эртелево тоже расположено в одном из таких «старых усадебных садов». Что одиозного в этом пейзаже — непонятно.
3. В чем Вы видите мое желание изобразить колхозную жизнь как убогую и темную? В том, что старик ходит в лаптях? Пора уже отказаться от городского предрассудка, что лапти — признак нищеты. Лапти — очень удобная производственная обувь для крестьян, для полевых работ. Поэтому колхозники (особенно на сенокосе) охотно ее носят. И в Воронежской области я видел многих колхозников в лаптях. Вас возмущает то, что старик спит на сене, — это Вы тоже считаете признаком нищеты. Я не понимаю, зачем Вам в этом Вашем заявлении понадобилось делать некоторую легкую передержку. Старик болен, ему душно на кровати в избе, он переполз с кровати в прихожую, где и лег на сене, — вполне возможная частность, говорящая о болезни, о желании старика лежать на свежем воздухе. При чем здесь нищета? И с каких пор то, что человек укрывается полушубком от озноба, является проявлением «убогости и нищеты»? Зачем Вам нужны эти натяжки? А они, между прочим, совершенно засорили в Вашем восприятии образ старика (с его глубокой любовью к дочери и напряженным ее ожиданием). Вместо сущности рассказа Вы восприняли только несколько частностей, не имеющих большого значения и к тому же неправильно Вами истолкованных.
4. Где противопоставление города и деревни? В чем? В том, что дочь привезла из города старику гостинцы? Зачем внешнюю разницу между городом и деревней (совершенно бесспорную) изображать как противопоставление?
5. Вас возмущает то, что в рассказе говорится о будущем урожае, о «добром лете», тогда как лето 1946 года было засушливым и не сулило урожая, я не датирую свой рассказ и вовсе не говорю в нем о лете 1946 года. Откуда Вы это взяли? Из того факта, что, как Вам известно, я был в Эртелево именно летом 1946 года? Но читатель этого не знает, не должен знать, и, наконец, ему это совершенно не нужно знать.
Я пишу вообще о Воронежской области. Рассказы пишутся с обобщением, со взглядом на будущее, и несколько наивно приурочивать действие таких рассказов к какой-либо дате — и приурочивать при этом совершенно произвольно.
6. Теперь последнее — о Никитине. Из всего контекста рассказа совершенно ясно, даже для самого неискушенного читателя, что рассказ о Никитине — легенда, переданная косарем. Он дан не от автора. И ничего порочащего Никитина в этой легенде нет. Народные легенды о наших великих людях очень распространены (в частности, на Псковщине легенды о Пушкине). Они свидетельствуют о живости народной фантазии.
Итак, критикуя, следует исходить из основного содержания вещи, а не из мелочного выискивания кажущихся неточностей. Это — обывательский, а не писательский подход к литературе…
8 сентября 1947 г. Эртелево
<���…> Сижу над пьесой, но, между делом, написал одну маленькую сказку (для «Мурзилки»). Уже осталось мне здесь жить совсем недолго — 6 дней и, должно быть, писать не буду, а пришлю телеграмму. Были очень холодные дни, заморозки, а сейчас опять тепло, но, как говорит Иван Андреев, «сентябрит» <���…>
Здесь уже осень, очень еще ранняя, но яркая. Вчера наконец Иван Андреев исполнил свое обещание и отправил меня на знаменитый Дедовский кордон на Усмань. Поехал еще Никита Санников (нелюдимый, но славный мальчик) и русский самородок воронежский композитор Массалитинов. Вез нас на лошадях (Мухе и Зайчике) плотник Андрей. Конечно, заблудился (да там и нельзя не заблудиться, такие дебри и пущи), и на кордон мы попали только в полдень. Леса потрясающие на холмах, грибы растут по дорогам коврами, все время слышно, как трубят олени. На У смани ловили хорошо, а рядом купался бобр и не обращал на нас никакого внимания. Чтобы пройти к берегу, пришлось прорубать дорожку в крапиве топором (!). Крапива в три человеческих роста и толщиной в руку. Обратно ехали ночью, лошади везли сами.
Вот и все мои новости. Я очень наслаждаюсь последними днями, собираю всякие листья и перышки <\…^>
Целую обоих очень.
Па.
23 октября 1947 г. Гагры
Валюшок-тингушок и Серый, — что-то долго нет от вас писем (получил только одно). Не знаю, когда вы получите это мое письмо, — самолеты, очевидно, не идут, так как уже седьмой день — шторм. С каждым днем он все усиливается, сегодня с утра над морем шли один за другим смерчи, — очень красиво, но жутко. А ночью была сильная гроза. На горах выпал снег, но у моря тепло, и я пока не зябну. «Старожилы» говорят, что не запомнят такой погоды и что еще будет жарко. В садах до сих пор цветут розы, много георгин и тысячами висят мандарины, их еще не снимали. Но курортная публика впала в уныние и разбегается.
Окончил рассказ для «Огонька» (называется он «Утренник») и вчера отослал авиапочтой Ступникеру в «Огонек». Напечатал в двух экземплярах. Один остался у меня. Здесь совершенно нечего читать. Достал «Форсайтов» и Конан-Дойля. Сделал уже либретто для Большого театра и сегодня взялся за пьесу. Работать в такую погоду очень хорошо, — нет никаких соблазнов. Работают почти все, — Арон тоже пишет рассказ (при этом все время напевает). Написал Королькову в Туапсе, — возможно, что он сюда приедет <>
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: