Валерий Осипов - Разрушение храма
- Название:Разрушение храма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Осипов - Разрушение храма краткое содержание
Разрушение храма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Авеню, переулки, бульвары…
Рю Шатобриан, Рю-де-Бери, Рю Дартуа, Рю-ла-Буатье, какая-то старая церковь на площади, поворот направо, и вдруг неожиданная и теплая волна накрывает твое сердце, — оказывается, ты случайно вышел на улицу Сезанна…
И сразу же возникает мысль о том, что Париж — город не только Наполеона, не только истории его войн и вообще истории. (Хотя, может быть, именно здесь, в Париже, история и вообще движение времени выражены самим городом, его улицами, домами и памятниками гораздо сильнее и ярче, чем в каком-либо другом месте земли, потому что Париж и сам по себе есть великий памятник смены эпох, памятник, на котором лучше всего развернута главная экспозиция безостановочного движения времени вперед — вечность.)
Стоя на улице Сезанна, ты вспоминаешь, что Париж всегда был прежде всего городом творчества, городом рождения новых форм и течений (наверное, упоминания об эпохе Наполеона потому так часто встречаются здесь, что имя Бонапарта в свое время тоже во многом было связано с рождением новых форм войны и власти).
Стоя на улице Поля Сезанна, ты начинаешь вспоминать картины великого мастера — «Мост на Марне», «Большая сосна», «Голубой пейзаж», «Пьеро и Арлекин» — и еще слова Хемингуэя о том, что свои рассказы он учился писать, глядя на картины Сезанна…
И от этого далекого и какого-то до обнажения откровенного признания Хемингуэя на тебя вдруг нисходит благодать понимания главной правды Парижа, ощущение истинной атмосферы города, атмосферы полубожественного сотворения нового, и ты сразу забываешь все мелкое и второстепенное, все бытовое и житейское, ты слышишь, как где-то в глубине твоего существа начинает пульсировать новый, до этой секунды еще неизвестный тебе нерв, и хочется что-то сделать, что-то свое — вылепить, спеть, написать…
Париж-передатчик послал тебе свой поэтический импульс, и ты принял его, длина ваших волн, твоя и Парижа, совпала, и что-то уже вошло в твое сознание и чувства, что-то новое уже стало частью твоей души, что-то уже происходит с тобой… А всего-то навсего ты стоишь ночью один на маленькой парижской улице — улице, носящей имя художника Поля Сезанна… Еще не прошло даже и половины суток с того часа, когда ты впервые в своей жизни прилетел в Париж, вокруг тебя громады старинных домов с темными окнами, и только наверху, в мансардах, там, где по традиции селятся те, кто в будущем должен будет завоевать Париж, все еще слабо горят огоньки, — кто-то пишет, а может быть, лепит или сочиняет музыку…
Перекрестки, улицы, площади…
Рю-дю-Фоб, Рю Данжу, Рю-де-Сюрен, и где-то неподалеку от храма Мадлен ты выходишь на бульвар Мальзерб, и в памяти сразу оживает сцена прихода инженера Гарина к химическому королю Роллингу в его деловой офис на бульваре Мальзерб, сорок восемь бис, и странное порождение причудливой фантазии Алексея Толстого в его романе о гиперболоиде — Зоя Монроз, русская балерина, международная авантюристка, фешенебельная длинноногая хищница с холодными синевато-серыми глазами и замашками американского гангстера.
Храм Мадлен словно гипнотизирует тебя своей неподвижно марширующей колоннадой, ты уходишь от него по Большим бульварам, сворачиваешь на улицу Капуцинов и, будто завороженный, будто приговоренный неким колдовством к тому, чтобы еще раз вернуться во все те места, где несколько часов назад ты был вместе со всей группой, снова входишь в каменную тесноту Вандомской площади, сплошь уставленную машинами и превращенную на ночь в огромную автостоянку.
Почему как лунатик ты бродишь всю ночь по тем местам, где один раз ты уже был? Совсем недавно, вместе со всеми?
Тот раз не считается. В тот раз, хотя ты и старался мучительно не обращать внимания на них двоих, на Него и на нее, все равно все твое существо было нацелено на них, оно было полностью обращено в их сторону, ты следил за ними, ты напряженно контролировал их обоих, стараясь услышать хоть одно слово, которое подтвердило бы твои опасения, уловить хоть один жест.
И поэтому ты ничего не видел в тот раз, ничего не понимал в улицах и домах, мимо которых вы проходили, ты был подавлен, скован, оскорблен их присутствием, все чувства твои были скомканы, зажаты, заморожены. И именно поэтому тебя так и тащит сейчас одного по ночному Парижу, чтобы освободиться от этого состояния подавленности и зажатости, смыть его с себя. Потому и стоишь ты так долго в тех местах, где вы уже были, — тебе хочется сохранить в себе Париж не с Его голоса, а через свои чувства и мысли, вызывая все то, что ты знаешь о Париже только из своей памяти, и одновременно закладывая в нее все то, что увидишь ты и поймешь в эту ночь в Париже только из своих впечатлений и чувств.
Здесь, на Вандомской площади, несколько часов назад ты хотел задать Ему вопрос о Парижской коммуне. Но разве смог бы Он сказать тебе о Коммуне и об этой площади что-либо больше того, что ты знаешь обо всем этом сам? Разве можно было бы; услышать от Него, например, слова о том, что небо над Вандомской площадью 16 мая 1871 года было ослепительно голубое, что весенний месяц цветения флореаль (по республиканскому календарю) был в тот год (год Коммуны) необыкновенно роскошен и щедр на краски и ароматы и что вон на тот самый балкончик (все так же висит на своем старом месте, как и восемьдесят семь лет назад) вышли в полдень из актового зала; министерства юстиции (которое восемьдесят семь лет назад так же, как и сейчас, находилось на этой же площади) комиссары Коммуны Феликс Пиа, Теофиль Ферре, и Жиль Мио, проголосовавшие за разрушение Вандомской колонны.
Разве мог бы Он, ответственный работник «Интуриста», «опуститься» до знания таких мелочей, как, скажем, эпизод с художником Гюставом Курбе (тоже, кстати сказать, комиссаром Коммуны), который стоял в тот голубой весенний день на Вандомской площади в густой толпе народа со стороны улицы Кастильоне (вон она у тебя за спиной, в сторону Тюильрийского сада, до сих пор так называется), и, когда в три часа дня колонну первый раз дернули за канаты, укрепленные на самой ее вершине, и канаты лопнули, Курбе достал из кармана бутылку красного вина, сделал большой глоток и сказал:
— Так я и говорил. Крепить канаты нужно было совсем по-другому.
И тогда стоявший впереди него старый наполеоновский солдат с деревянной ногой обернулся и с яростью закричал:
— Как вы смеете оскорблять того, кто был рукой Франции!
— Эта рука отняла у вас ногу, — усмехнулся Курбе и сделал второй глоток, очевидно, не меньший, чем первый.
Под радостные крики парижан Вандомская колонна, отлитая некогда из тысячи двухсот пушек, захваченных Наполеоном под Аустерлицем, все-таки рухнула в тот день на землю. (Не этим ли падением наполеоновского символа навсегда окончилась во Франции эпоха монархических культов? Ведь колонну как исторический памятник через несколько лет восстановили, а монархия во Франции так и не была больше восстановлена ни разу… Может быть, разрушение Вандомского идола заслуживает более высокой оценки со стороны музы истории Клио, чем это сделано до сих пор?) А Курбе? Чем занят в эти часы художник после низвержения колонны? Он весело ужинает в компании друзей в ресторане папаши Лавера, шутит, смеется, поет песни, спорит с писателем-коммунаром Жюлем Валлесом о будущем Коммуны. Курбе, в отличие от Валлеса, предсказывает Коммуне победу, но Коммуне остается жить чуть больше десяти дней, а Курбе находиться на свободе — всего три недели…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
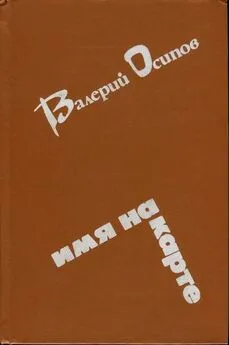
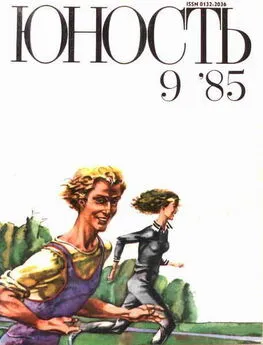

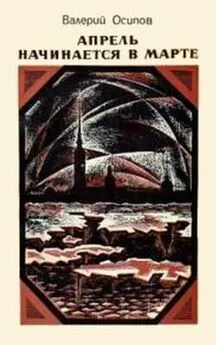
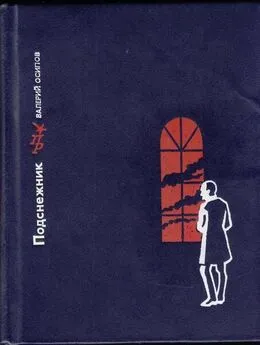

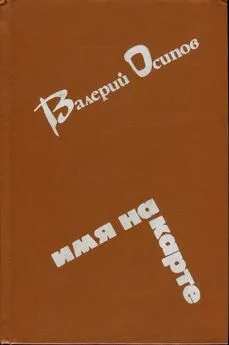
![Валерий Осипов - Солнце поднимается на востоке [Документальная повесть]](/books/1074071/valerij-osipov-solnce-podnimaetsya-na-vostoke-doku.webp)
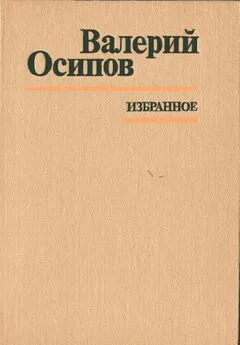

![Валерий Осипов - Неотправленное письмо [сборник]](/books/1148547/valerij-osipov-neotpravlennoe-pismo-sbornik.webp)