Валерий Осипов - Разрушение храма
- Название:Разрушение храма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Осипов - Разрушение храма краткое содержание
Разрушение храма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И снова большая, горячая волна накрывает сердце, снова что-то оттаивает в моей напряженно застывшей душе… Да, Париж, ты все-таки симпатяга город. Даже ночью, даже зимой в половине шестого утра, ты вдруг предъявляешь доказательства своей человечности, доказательства того, что нет, наверное, на свете города, который столько бы знал о человеке, сколько знаешь о нем ты (особенно когда человеку плохо), который столько бы понимал в человеке, сколько понимаешь в кем ты (особенно когда человеку плохо и особенно на рассвете), который смог бы так быстро и так вовремя помочь человеку, как это сумел сделать ты (особенно на рассвете и особенно когда человеку плохо).
Все. Время мое кончилось. Кончилась ночь, и кончилось время, которое злая (а может быть, наоборот, добрая) судьба подарила мне для Парижа. Кончилась моя единственная, моя Варфоломеевская (для самого себя) ночь в Париже. Нужно возвращаться в гостиницу.
Мне бы, конечно, хотелось еще побродить по левому берегу (прогуляться, скажем, по бульвару Сен-Мишель до Латинского квартала, или до Сорбонны, или до Люксембургского сада), но что поделаешь — надо возвращаться в «Пале д′Орсей». (Странное дело, гостиница наша находится на левом берегу, а я всю ночь ходил по правому, словно мне обязательно нужно было уйти на другой берег, словно меня гипнотизировали все эти многочисленные парижские мосты, требуя во что бы то ни стало перейти по одному из них на другую сторону реки, словно я не мог оставаться на том берегу, на левом, на котором в эту ночь были они оба — Он и она.)
Да, я, наверное, постоял бы на перекрестке бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен около музея Клюни, а потом поискал бы улицу Кардинала Лемуана (где-то около старого винного рынка), на которой жил когда-то Хемингуэй, и по которому всего лишь пятьдесят лет назад гоняли коз и доили их прямо под окнами покупателей молока, и откуда Хемингуэй ходил на улицу Флерюс к Гертруде Стайн учиться писать рассказы и на улицу Одеон в книжную лавку Сильвин Бич читать «Записки охотника» и «Войну и мир».
Может быть, я бы даже нашел маленькую улицу Феру, по которой Хемингуэй (когда у него не было денег) шел к площади Сен-Сюльпик, чтобы не встречать по дороге рестораны и кафе, но я стал бы искать улицу Феру и не только поэтому, а еще и потому, что на улице Феру (если верить Александру Дюма-отцу) жил когда-то, четыреста лет назад, сам Атос (граф де ла Фер — Железный Атос) и сюда, на улицу Феру, к нему приходил не кто-нибудь, а сам Д′Артаньян, великий Д′Артаньян… (С ума можно сойти! Быть рядом с еще сохранившейся улицей, по которой могли ходить Д′Артаньян и три мушкетера, и не иметь времени, чтобы хоть издали посмотреть на эту улицу. С ума можно сойти!)
Было бы, конечно, неплохо, пройдя по бульвару Сен-Жермен мимо храма Сен-Жермен-де-Пре (в шестом веке нашей эры был основан и до сих пор стоит, нисколько не разрушился), было бы, конечно, хорошо выйти на перекресток бульваров Распай и Монпарнас, где должен выситься, надменно запрокинув голову, роденовский Бальзак, вокруг которого были некогда расположены знаменитые литературные кафе «Ротонда», «Куполь», «Дю Дом», «Клозери де Лила».
В одном из этих кафе, накануне первой мировой войны, сидел с утра до вечера в клубах табачного дыма больной, кашляющий, задыхающийся, полупьяный и полусумасшедший итальянец Амадео Модильяни и взрывал, взрывал, взрывал своей бешеной художественной энергией, своим неукротимым новаторством все правила, все устои, все традиции современной ему графики.
Карандаш Модильяни отрицал классическую светотень, цвет, деталь и вообще всякое бытописательство. Карандаш Модильяни выводил на первое место линию, линейную экспрессию, конструктивную остраненность. Карандаш Модильяни внезапно, мгновенно, парадоксально и неопровержимо постигал главное в изображаемой человеческой модели — ее психологический сгусток, ее тщательно скрываемую житейскую драму, а может быть, даже жизненную трагедию.
Модильяни умер в тридцать пять лет, на пороге бессмертия, так написано на его могиле на кладбище Пер-Лашез.
Его жене, Жанне Эбютерн, в это время был двадцать один год.
Через сутки после смерти мужа она выбросилась с шестого этажа и разбилась насмерть, оставив после себя годовалую дочь.
На могиле Жанны Эбютерн (она похоронена рядом с Модильяни) есть надгробная надпись: «Верная подруга Модильяни, не захотевшая пережить разлуку с ним».
Мне хотелось бы, чтобы и мою жену тоже звали Жанна… И чтобы ее сейчас, в это утро, не было бы там, на набережной Анатоля Франса, в гостинице «Пале д′Орсей», в № 564.
Но она, к сожалению, сейчас там.
И с этим теперь уже ничего нельзя сделать.
Курганов стоял перед собором Парижской богоматери. В белесом рассветном сумраке неправдоподобная готическая громада собора, казалось, занимала собой все небо над городом. Скорбная шеренга каменных фигур над тройным входом предупреждала о чем-то значительном и важном. Летели вверх вертикали аскетических окон. Устремленные к небу две боковые башни собора звали за собой, пылали кострами пламенеющего, возгорающегося духа. Что-то приближалось, что-то должно было случиться с минуты на минуту… Круглая роза витража в центре портала вот-вот должна была взойти над Парижем багровым, пещерным январским солнцем.
Вздохнув, Курганов медленно пересек площадь и вошел в здание собора.
Каменная тишина под высокими сводами пустынного утреннего храма оглушила, заставила остановиться. Он поднял голову — над ним нависало суровое готическое ущелье. В нереальной вышине незримо витал неуловимый прах небытия. Стены ущелья подчиняли сознание, ломали волю, уводили просветленные чувства коридором покорности к освобождению от тягот непосильной плоти, к видневшемуся вдали над алтарем предполагаемому выходу из мрака земных юдолей — тройному окну, за которым, по замыслу архитектора, должно было, очевидно, происходить исполнение надежд и желаний.
«Это не церковь, — подумал Курганов. — Это театр. Идея веры разрушена искусством декорации, искусством архитектуры. Идея веры разрушена знанием… Идея бесконтрольной, безответной, не требующей никаких доказательств веры разрушена знанием законов человеческой психики. В основу архитектуры собора положена иллюзия исполнения надежды… Вот человек подходит к собору, значительность и красота его внешнего вида (гигантские размеры, скульптуры, витражи) — все это заставляет почувствовать доверие к этому реальному творению человеческих рук, рождает надежду, что храм этот, очевидно, возводился не зря — он построен для того, чтобы здесь происходило исполнение надежд… Человек входит в собор, — суровая солдатская готика, аскетизм католических декораций, полуказарменная скудость внутреннего убранства — все это как бы соответствует тем невеселым обстоятельствам жизни, которые привели человека сюда и возбудили в нем потребность в надежде на что-то… И вот начинается театральное действие: весомость органных звуков, убедительный лаконизм латинских оборотов молитвы — и надежда постепенно облекается плотью кажущегося исполнения. Религия, позвав на помощь искусство, воздвигает в душе человека храм надежды, храм веры в исполнение надежды, и залогом этой веры в исполнение является каменная реальность здания храма, соответствие его архитектуры законам движения религиозного чувства в человеческом сознании — от зарождения потребности в надежде на что-то до укрепления веры в то, что эта надежда должна исполниться. Залогом исполнения надежды служат вон те три окна, три далеких светлых пятна над алтарем — тройной выход надежды из веры в исполнение. (Как точно и тонко задумано: тройной вход в портале храма, тройной вход в веру и тройной выход к исполнению надежды, как бы увеличивая прочность и правильность веры этим совпадением числа входов и выходов, совпадением числа дверей и окон!)»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
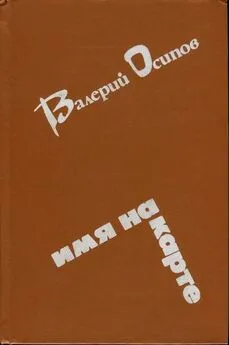
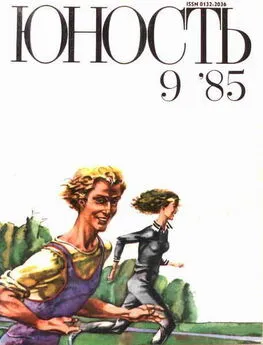

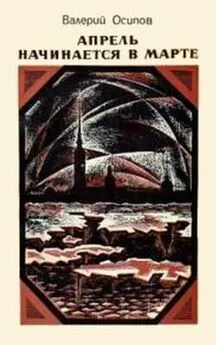
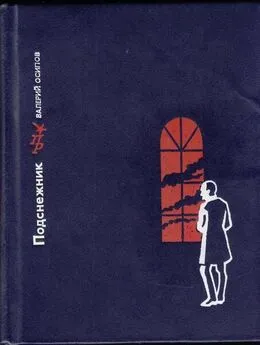
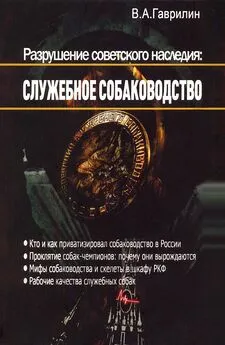
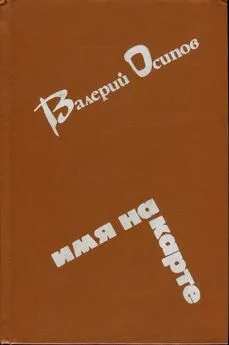
![Валерий Осипов - Солнце поднимается на востоке [Документальная повесть]](/books/1074071/valerij-osipov-solnce-podnimaetsya-na-vostoke-doku.webp)
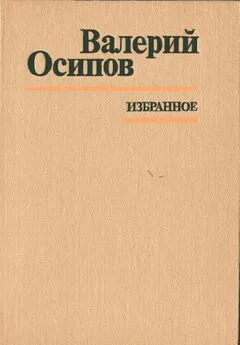

![Валерий Осипов - Неотправленное письмо [сборник]](/books/1148547/valerij-osipov-neotpravlennoe-pismo-sbornik.webp)