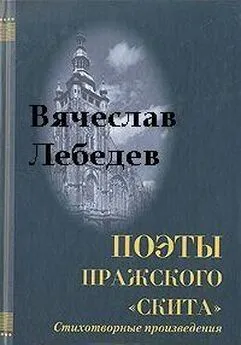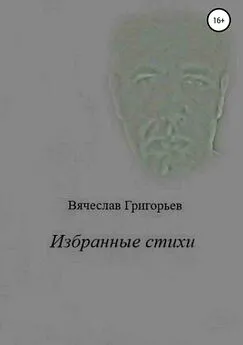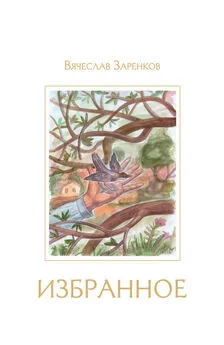Вячеслав Шугаев - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Шугаев - Избранное краткое содержание
Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…А в тот (назову его — бунинский) день, пережидая на крыльце, пока не скроется, не истает в розовато-синем проеме меж сосен видение старика, пришедшего за необычным долгом, Александр Трифонович стоял с какою-то глыбистой, усталой недвижностью, не отпуская с лица важную сосредоточенность, забыв про сигарету, и струистый дымок медленно, одиноко тек перед его сощуренными глазами. Потом вздохнул, затянулся, сдвинул шапку с припотевшего лба и, привалившись плечом к стене, заговорил с обычною, доверительно-негромкою неторопливостью. Заговорил об Анисье Минаевой, жалкой старушке из бунинского рассказа «Веселый двор».
Не знаю, как Александр Трифонович писал прозу — я имею в виду внешнюю, доступную пересказу, сторону дела: ручкой ли, карандашом, в какой час, прерывал ли писание, чтобы походить, полежать, чаю попить и т. д. — но, думаю, он «вышагивал» ее в своих долгих прогулках по лесу, «вышагивал» построчно, поабзацно, и думаю так потому, что позже, читая его страницы «О Бунине», никак не мог отрешиться от чувства, что я давно знаю эти страницы и давно люблю. Когда он пишет об Анисье: «Ее материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, ее страдания вызывают у нас прежде всего не восхищение мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание помочь этой бедной женщине, накормить, приютить ее старость», — я вижу тот мартовский день, темную строчку капели на дачном крыльце, Александра Трифоновича, подставившего сигарету под тяжелую литую каплю, явственно слышу, как он говорит именно эти слова. Причем, уверен, хоть и признаю временное преломление памяти, что если они и отличались от печатного текста, то очень незначительно. Вообще, ни у кого больше не встречал такого редкого сближения устной речи с письменной — как в разговоре он был неумолимо строг к словам, напряженно соединяя их в изысканно простые фразы, так и в прозе.
Врожденным было это свойство или выработанным — тоже не знаю, но если принять во внимание удручающее несовпадение обиходного языка многих наших литераторов с языком их книг, то свойство это поистине редкостное, побуждающее к самым серьезным размышлениям.
С этого дня многие наши разговоры, коснувшись разных разностей, устремлялись все же к Бунину. Склонность Александра Трифоновича к таким поворотам понятна: он, видимо, вставал и ложился тогда с сердечной пристальностью к бунинской судьбе, но, к счастью, и мы более или менее были к ним подготовлены — перед Москвой, в выстывшей библиотеке Мальтинского дома отдыха мы взяли пятитомник Бунина, перечитывали, читали, обмениваясь томами, как бы заранее совмещали душевную потребность в этом чтении с угаданной необходимостью быть свидетелями «по делу Бунина», предстать перед его судьей, прокурором, адвокатом — все три эти должности Александр Трифонович правил с пронзительным, любовным пристрастием.
Он судил, упрекал позднего Бунина за «прямолинейно чувственный характер» писаний, за «эротические мечтания старости». Мы же, возможно с излишней горячностью, свидетельствовали, что, пожалуй, никто из русских писателей не достиг такой поэтической высоты и такой реалистической свежести в изображении этой самой чувственности, ни у кого, пожалуй, она не проникнута такой психологической новизной, что без Бунина наше знание о тайных и прекрасных глубинах человеческого духа было бы весьма и весьма обуженным.
Мы восторгались «Мордовским сарафаном», «Солнечным ударом», «Галей Ганской», а Александр Трифонович сидел напротив, с печально-ясным лицом слушал наши восторги и молчал. Эта печальная, даже скорее кроткая ясность возникала, я заметил, при полном неприятии им тех или иных разговоров, вкусов, слов. Он как бы отгораживался ею, неприступно и ласково защищал свое, нечто неколебимое, не нуждавшееся в объяснениях и доказательствах. Думаю, упрекая Бунина в «излишней пряности», Александр Трифонович впадал в некоторый ригоризм, питавшийся, должно быть, строгими патриархально-крестьянскими моральными принципами, накрепко усвоенными им в детстве и отрочестве.
Между прочим, потом, на страницах, посвященных Бунину, Александр Трифонович назовет «Солнечный удар» превосходным рассказом, хотя в разговорах с нами и его зачислял в разряд «пряных», а мы, разумеется, с особым жаром протестовали против столь сурового и несправедливого суда. Вовсе не хочу сказать, что мы повлияли на переоценку рассказа, при нашей истовой защите переменилось мнение Александра Трифоновича — нет, конечно. Видимо, поддразнивал нас, проверял нашу способность к аргументации, насколько мы умеем облекать искренность в приличные, серьезные одежды, а может, еще более укреплялся в необходимости высказать именно этот упрек Бунину, видя, как горячо пьянят молодые головы его «старческие мечтания», решив оттенить упрек признанием художественной полнокровности «Солнечного удара»…
Подчас мы дурно и неблагодарно пользовались расположением Александра Трифоновича. То ли настигали нас приступы душевной глухоты, довольно часто досаждающей нам в молодости, то ли приступы неумеренной душевной простоты, заслоняющей границы, переступать которые непозволительно. Как-то мы спросили Александра Трифоновича, почему он никогда не писал о любви, о муках и озарениях собственного сердца?
Ласково-печально осветилось лицо, кротко заголубели глаза — мы еще не знали, что маска эта прикрывает его мгновенно возникшее душевное несогласие, может быть, боль, загустевшую и затвердевшую в упорно-непроницаемом молчании. А мы — совестно вспомнить — принялись обставлять этот вопрос примерами из истории отечественной литературы. Что, мол, все большие поэты не миновали в строках своих этой целительной, губительной, испепеляющей страсти, что, мол, у поэта, не заплатившего ей стихами, сердце с явным изъяном и т. д. и т. п. Александр Трифонович молчал, молчал, а потом негромко, с какою-то подчеркнутой доброжелательностью спросил:
— Ох, ребята, сколько вы славных имен помянули. Может быть, вы прочитаете что-нибудь наизусть? На избранную тему? Может быть, из Есенина?
Осекшись, смутившись, мы потянулись к сигаретам. Он улыбнулся, с этакой прощающей кротостью, вновь попросил:
— Серьезно. Припомните Есенина. С удовольствием послушаю.
Припоминали, читали, а он, опершись подбородком на тыльный скат ладоней, устроенных на палке, не мигая, пристально глядел в ночное окно.
…Вернувшись однажды из Москвы, я застал Саню растерянно-смущенным: свесив чернокудрявую голову, быстро ходил, скорее даже метался по комнате. Закушенная сигарета как-то отчаянно, бурно дымила, добавляла в его кудри бело-сизых завитков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


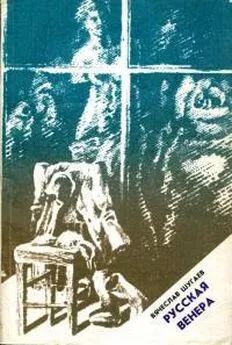
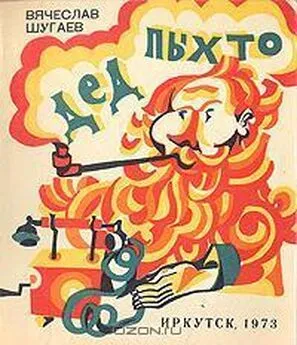
![Вячеслав Шугаев - Странники у костра [Авторский сборник]](/books/1086186/vyacheslav-shugaev-stranniki-u-kostra-avtorskij-sbor.webp)