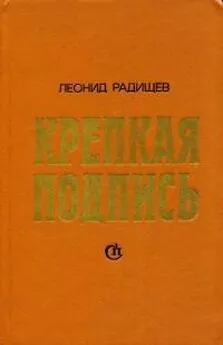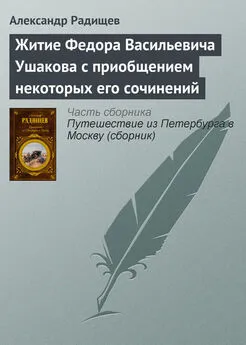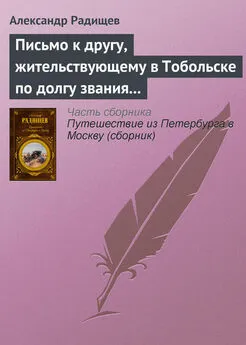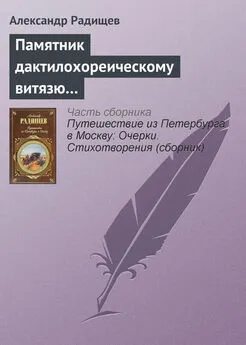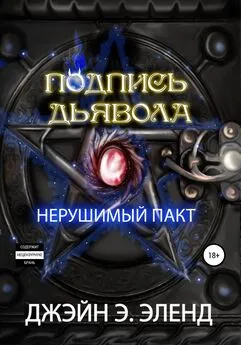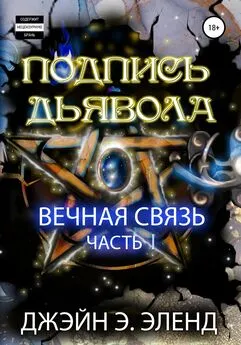Леонид Радищев - Крепкая подпись
- Название:Крепкая подпись
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Радищев - Крепкая подпись краткое содержание
В книгу вошли также рассказы писателя о людях революционной эпохи, о замечательных деятелях культуры и литературы (М. Горький, Л. Красин, А. Толстой, К. Чуковский и др.).
Крепкая подпись - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сейчас трудно представить себе, что когда-то нужно было доказывать, что Некрасов «тоже» великий поэт и что место ему рядом с Пушкиным, Гоголем, Тургеневым и Львом Толстым.
Разрушить историческую несправедливость, отринуть легенду, не достойную великого имени, — эта задача требовала не только темперамента бойца, но и терпения исследователя, следопыта точных фактов.
Это была совсем другая работа, не похожая, к примеру, на доказательство того, что поэзия некоего г. Рославлева выражает надежды и чаяния полковых писарей. Надо было не только разрушать, но и строить. Тема Некрасова была, по существу, целой программой созидания.
Я хочу выразить здесь смелую догадку, которую мог бы подтвердить или отвергнуть только сам Корней Чуковский. Конечно же, автор, придумавший «Крокодила» и «Мойдодыра», автор сокрушительно-хлестких фельетонов не мог не быть в свое время озорником — немало, наверное, переломал он игрушек. Но представляется, как это ни странно, что больше всего любил он в детстве сооружать из кубиков всякие дома, дворцы, крепости — старательно, сосредоточенно, часами.
В нем, несомненно, жил строитель. Только очень долго он не догадывался об этом.
На протяжении многих лет была у него критическая, так сказать, доминанта: детская литература. На эту излюбленную — нет, наоборот, — самую ненавистную мишень непрерывно сыпались яростные удары.
«Детских поэтов у нас нет, — установил он полвека назад, — а есть какие-то мрачные личности… которые в муках рождают унылые вирши про рождество и пасху».
«Мрачные личности» — это было самое мягкое из его определений. «Растлителями», «пошлыми бездарностями», «душителями детства» именовал он фабрикантов черносотенной гнили и дешевых мещанских сантиментов пресловутого «Задушевного слова», кустарей-одиночек, плодивших всех этих гнусных замерзающих мальчиков, мотыльков, зайчиков, волхвов, великодушных царей, добрых генералов, вифлеемские звезды, бантики и дрянненькие виньетки.
Это было время, когда Чарская полезла на пьедестал «великого писателя» и «властителя дум» со своими бесчисленными Джавахами и Сибирочками, Людами Власовскими и «белыми пелеринками». В письме юной читательницы, напечатанном в «Задушевном слове», было сказано: «Из великих русских писателей я считаю своей любимой писательницей Л. А. Чарскую». В других письмах юных читательниц, помещенных там же, «великая писательница» ставится рядом с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым.
По ней, по «обожаемой Лидии Алексеевне», и пришелся один из самых дробительных ударов Корнея Чуковского.
«Только темная душонка может с умилением рассказывать, как в каких-то отвратительных клетках взращивают не нужных для жизни, запуганных, суеверных, как деревенские дуры, жадных, сладострастно-мечтательных, сюсюкающих, лживых истеричек».
Слова эти прозвучали как приговор моральным растлителям молодой души. Это была сенсация. Но положение с детской литературой не изменилось. Не до каких-то там детских книжек было во времена «богоборчества» и «богоискательства», спиритических сеансов, либеральных банкетов, мистических откровений, бульварных афоризмов и «роковой тайны пола». На ревнителя детской литературы — по собственному его признанию — смотрели «как на маньяка, назойливо скулящего о малоинтересных вещах».
Он не знал еще тогда, что был все-таки не одинок. Это открылось ему в 1916 году, когда он получил приглашение от издательства «Парус» принять участие в организации детского отдела с весьма широкой программой. Во главе издательства стоял Горький. Знакомство с ним произошло именно на почве детской литературы, о тогдашнем состоянии которой Алексей Максимович имел столь же категорическое суждение: «Детскую литературу делают у нас ханжи и прохвосты. И перезрелые барыни».
Однако Горький не был бы Горьким, если бы ограничился установлением этих прискорбных фактов.
«Представьте себе, — сказал Горький, — что эти мутноглазые уже уничтожены вами, — что же вы дадите ребенку взамен? Сейчас одна хорошая детская книга сделает больше, чем десяток полемических статей… Это будет лучшая полемика — не словом, а творчеством!»
Как и у Короленко, в словах Горького прозвучал мотив созидания. Творческий заряд был дан. Так появилась на свет поэма «Крокодил», по признанию автора, «воинственно направленная против царивших в тогдашней детской литературе канонов». Можно представить себе, какой скандальчик разгорелся бы в благородном литературном обществе: уличный герой с папиросой в зубах среди вербных херувимов.
Но тут разыгрались другие — планетарного масштаба — события. Из Смольного — бывшего института для благородных девиц, «белых пелеринок», — на весь мир прозвучал голос Ленина. За одну осеннюю ночь «облетели цветы, догорели огни», разлетелась в разные стороны нечисть старого мира. До «Крокодила» ли было тут?
И тем не менее грудной еще крокодильчик — год рождения 1916 — уцелел в грандиозных исторических бурях и оказался у истоков новой детской литературы, которая начала строиться в Советской стране. Все-таки удивительная судьба у этой озорной книжицы. Герою ее перевалило за полвека, но он пребывает в отменной форме и добром здравии. От него пошло причудливое племя Айболитов, Бармалеев, Мойдодыров, Тараканищ, Мух-цокотух…
И рядом с ними, тоненькими, веселыми, легли серьезные, солидные, «маститые» тома — работа критической мысли, определения и точные выводы; годы труда в архивах, в книгохранилищах, за письменным столом; расшифрованные с фанатическим терпением черновики, автографы, полустертые тексты — «в грамм добыча, в год труды».
Около пятнадцати тысяч новых некрасовских строк было введено Корнеем Чуковским в отредактированное им полное собрание сочинений Н. А. Некрасова, и среди них впервые зазвучало знаменитое теперь:
Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило, как гром!
Полвека назад, приглядываясь к «легенде о Некрасове», Чуковский установил, что многие из тех, кто говорил о его поэзии как о «малеванном хламе», не всегда выражали подобное мнение.
Когда Некрасов явился перед ними как соратник Чернышевского, подлинный выразитель народного горя, когда он стал вождем, воплощением, символом ненавистного им поколения «новых людей», тогда великий поэт сделался омерзителен для них и даже эстетические воззрения на него круто изменились. Обо всем этом убедительно рассказали дальнейшие работы Корнея Чуковского и особенно его «Мастерство Некрасова», как бы подводящее итог сорокалетию «некрасовской темы», ставшей делом его жизни. Этот капитальный труд написан «по-чуковски» взволнованно и увлекательно. Прекрасно показан здесь великий поэт во всех сложных взаимосвязях его с эпохой, с людьми и идеями своего времени, процесс его творчества, его работа каменщика, гранильщика вечных строк.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: