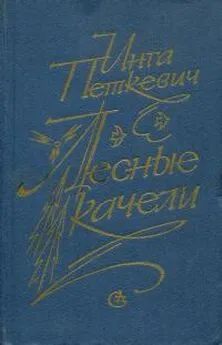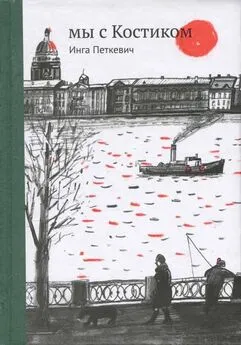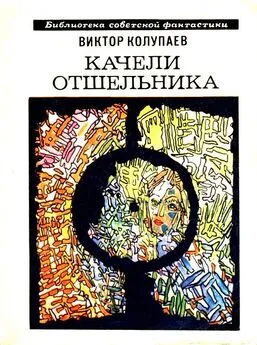Инга Петкевич - Лесные качели
- Название:Лесные качели
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инга Петкевич - Лесные качели краткое содержание
Лесные качели - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Потом все устали и притихли. Егоров, лежа на своей верхней полке, вспомнил, как много лет назад пацаном бежал из деревни в город, и в поезде были такие же точно цыгане, и бестолочь была точно такая же, и он проехал под шумок без билета. Он еще подумал, что цыгане, в таком случае, некий знак, предзнаменование что ли, вот только неизвестно, дурное или хорошее. Как многие летчики, он был малость суеверен.
Проснулся он среди ночи от сердечного приступа. Все кости ломило, сердце ухало где-то в горле, а голова, казалось, вот-вот разорвется на кусочки и с дребезгом рассыплется по всему вагону.
Он вышел в коридор, жадно глотнул свежий ночной воздух и понял, что в купе нет вентиляции. Разбудил проводницу, но та объяснила ему, что вентиляцию цыгане уже сломали, а окна задраены намертво, потому что вагон кондиционированный.
Потом начались кошмары. С безнадежной трезвой очевидностью он увидал себя со стороны, ужаснулся и чуть было не завыл от тоски. Пожилой отставник, а еще гоношится, а еще что-то о себе воображает. Бросил зачем-то друзей и чешет невесть куда и зачем. И все его позы, фокусы и зароки, потеряв адресата, сразу стали жалкими и никчемными, потому что все это имело смысл только среди своих, где его помнят и любят. А там, в большой жизни, которую он так дерзко ринулся покорять, там никому до него нет дела. Тоже мне, выкинул финт! Зачеркнул прошлое. А что дальше? Ради чего он все это нагородил? Ведь тогда, когда он бежал из деревни, он имел ясную цель, мечту, впереди была жизнь. А теперь все позади и несет его неизвестно куда…
Если бы Егорову сказали, что он странный человек, он бы очень удивился. Когда бы ему сказали, что он интересный человек, он бы пожал плечами и не поверил точно так, как не поверил однажды, прочитав в газете про полковника Егорова, что «его жизнь — песня». Но если отвлечься от скудости штампа, то журналист был недалек от правды. Жизнь Егорова и впрямь имела одну сквозную мелодию, настолько с ним общую, что услышать, что она была, он мог лишь когда она оборвалась, по резкой решительной тишине. По той самой тишине, о которой он так часто мечтал, но в которой никогда не нуждался и с которой понятия не имел, что делать. Он мог затыкать и открывать свое ухо сколько угодно — никакой разницы: та же пустота тишины. Он больше не летал.
Когда он прикрывал глаза, то снова летел, но как-то устрашающе, тошнотно тихо, будто кончилось горючее, то есть падал. Он ухмылялся криво.
Он всегда летал. Он летал хорошо. Он это про себя знал. Знал даже тогда, когда «летать хорошо» в корне поменяло свой смысл и, казалось, романтика высшего пилотажа воздушных парадов и испытаний стала почти таким же прошлым, как дирижабль. Тем не менее Егоров знал, что продолжает летать хорошо, но другие почему-то еще лучше его знали, насколько хорошо он летает. Он привык к этому хвосту репутации, всегда следовавшему за ним, и не замечал его.
Он себе не казался интересным, потому что не мог ничего причислить в своей жизни к событиям: их было, на его взгляд, всего три: первый бой, смерть жены и решение выйти в отставку. В том плане, в котором, он полагал, мыслят умные люди, он никогда не мыслил. Ему казалось, у него не бывает мыслей. Конечно, он соображал, это — да. Когда кто-то находил у него особый почерк, стиль, мастерство, секрет, он полагал это за романтику и, не таясь, ничем не мог поделиться: он был бездарнейший педагог. Все, пытавшиеся перенять у него что-то, быстро отступали, так ничему и не научась. Кроме одного…
Вот именно, кроме одного. И этого одного он ничему не научил — тот сам от него научился. Но не очень, выходит. Нет больше Глазкова. И что его больше нет — одна из немногих мыслей Егорова.
Бывают в жизни такие проклятые встречи. Войдет человек в тебя как заноза или клещ какой, и не вытащить его и не избавиться. И чем больше с ним борешься, тем глубже он в тебя впивается, и саднит, и раздражает. Несовместимость тут какая-то или, наоборот, совместимость, симбиоз какой или взаимное паразитирование, но только никуда от него не деться. Можно, конечно, прибегнуть к хирургическому вмешательству, вырвать с корнем, удалить, отрезать, но ссадина все равно останется, зарубка на память, и неизвестно еще, не будет ли эта ссадина хуже самой занозы. Такой занозой был для Егорова Глазков.
Глазков был много моложе Егорова. Он не мог помнить войну и потому принадлежал к другому поколению. Теперь уже трудно было бы различить в них ту разницу возрастов, что и составляла разницу поколений, но для Егорова она была вполне заметна и ощутима. Глазков не нюхал пороха, не ведал объединяющего горя народной трагедии, не знал радости победы. Он родился и вырос после войны.
Было же такое счастливое время, когда Егоров и не подозревал о существовании Глазкова. Летал себе, свободный и счастливый, как птица. Конечно, не так уж легок был его полет, но это было его личное дело и никого больше не касалось.
Он посвятил свою жизнь полету, это была его единственная страсть, мечта, единственная форма его жизни, которая диктовала все остальное: форму одежды, форму поведения, форму отношений с людьми. Вся же остальная жизнь, которая не помещалась в эту форму, его не касалась. Да и то немногое, что прорвалось в его жизнь, было тщательно подогнано под узкую и жесткую норму походного рациона. Но лично он, Егоров, был своей жизнью вполне доволен.
Проходило время — Егоров не менялся. Он упорствовал с опасной бритвой и помазком: три дареных электробритвы составили род коллекции; стригся он по-прежнему под полубокс… Молоденькая парикмахерша как-то раз спросила: что это такое? — она не слышала такого слова и смеялась. Получалось, что для Егорова время не шло, оно для него обозначалось лишь сменой летной и нелетной погоды да еще приближением очередного медосвидетельствования, с неумолимостью означавшего для него время, которое он якобы отменил. Там были звоночки, а потом и звонки. Егорова это бесило: люди, понимающие в авиации много меньше, чем он в медицине, решали, однако, летать ему или не летать, и все чаще почесывали затылок, решая.
Предсердия, клапана… Тут было не разобрать, не продуть, не смазать… Не было в медицине такого же класса механиков, которым достаточно было приказать, чтобы о двигателе не беспокоиться. Медицина уступала авиации во всем.
А то, что жизнь не прошла для него даром, что у него, оказывается, есть сердце, явилось для Егорова неприятным открытием. Он недоумевал.
Пораженный, он оглядывался другим, непривычно растерянным взором вокруг — и многого не узнавал: другие молодые люди бродили по поселку и обнимались у сменивших заборы штакетников… Да и дома вдруг, словно в одну ночь, заменили другими: кинотеатр стал походить на ангар, баня почему-то стала прозрачной, из одного стекла… Все, все другое! Мороженое другое, и пиво (которого стало нельзя) другое, пуговицы какие-то другие, трусы, носки, галстуки… Он иногда и впрямь с удивлением, натягивая носок, вдруг обнаруживал, что уже лет десять совсем не те носки носит! «Ничего, — утешал он себя, — это еще не трагедия».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: