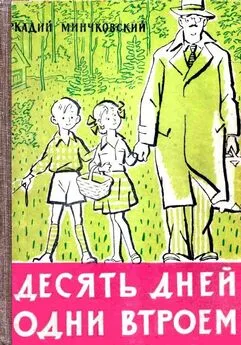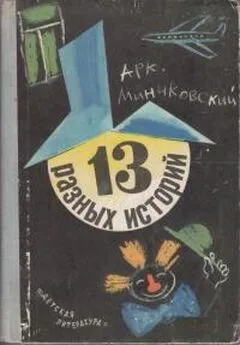Аркадий Минчковский - В наши дни
- Название:В наши дни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1983
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Минчковский - В наши дни краткое содержание
В наши дни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Гид венгерского туристического бюро — расторопный молодой человек с черными усиками, для мадьяра более чем сносно говорящий по-русски, показывает окружившим его советским туристам на противоположный берег реки. Чуть правее многотрубно дымит какой-то завод. У мола возле него принимают продукцию сухогрузы.
— Там уже Чехословакия, — говорит гид.
Загорелый беловолосый парень в рубашке навыпуск, беспрерывно во все стороны щелкавший «ФЭДом», на миг оторвался от видоискателя и, повернув лицо к гиду, спросил:
— Нет, это вы серьезно?
Ему, приехавшему из Орла или Тюмени — города, от которого государственные границы за тридевять земель, — удивительно видеть, что Венгрия кончается вот тут, под ногами, всего в какой-нибудь полусотне километров от столицы, что внизу, за Дунаем, уже другая страна.
В тот далекий памятный мне год четверть века назад мы не очень-то разбирались в границах. Да они, помнится, и были иными. Там, куда смотрит парень, уже направивший свой объектив за Дунай, тогда взламывалась чуть ли не последняя на нашем пути оборонная линия немцев. Гремели, кажется, ни на час не затихавшие пушки. Отгромыхав, куда-то во тьму уходили танки с чумазыми ребятами в черных, металлически лоснящихся комбинезонах. В непроглядное небо, освещая малознакомую картину, взмывали ракеты.
Помню, в такую ночь в штаб части, которой я был временно придан с ротой саперов, привели молоденького, почти мальчика, венгерского солдата. Щурясь от яркого света, он жался к стене, боязливо поглядывая по сторонам.
— Сам сдался, сам пришел, — весело объявил приведший его молоденький парень-сержант с автоматом на груди, сказав это таким тоном, будто привел знакомиться с нами товарища.
Трудно было с мадьярским языком. Переводчиков не хватало. Объяснялись кое-как, при помощи немецкого, который тогда в Венгрии знали хорошо.
Допрос пленного был недолгим. И без его объяснения было ясно, что мобилизован он неделю тому назад. Тоненькая мальчишеская шея торчала из ворота шинели. На лоб сползала венгерская солдатская шапочка из сукна. Солдат-мальчик сообщил все, что он знал, а знал он куда меньше нашего. Пора было его и уводить, но тут на глазах юноши появились слезы. Он вытирал их широким грязным рукавом.
— О чем это он? — недовольно спросил допрашивавший пленного подполковник. — Ничего с ним не будет.
Переводчику с трудом удалось выведать причину подавленности пленного.
— Он плачет, — пожал плечами лейтенант — в прошлом аспирант-историк, — потому что сдался. Он говорит, что ему стыдно. Его товарищи по гимназии воюют, а он не мог, испугался и сдался.
Странно, но тогда, в переполненной военными тесной комнате, никто не засмеялся над нелепым признанием. Смятение юноши, начиненного понятиями о «чести» воина трижды поруганной родины, не было смешным.
— Он еще говорит, — добавил переводчик, — что в Будапеште у него мама и маленькая сестренка и что они голодают в бункере.
— Скажи ему про Ленинград, — крикнул зло кто-то из угла комнаты, но подполковник прекратил объяснения.
— Пускай не страдает. Ничего! — сухо бросил он. — Маму он еще, надо надеяться, увидит, а если его товарищи тоже не будут дураками — и они вернутся домой.
Теперь, в мирный час свободной и суверенной Венгрии, я стоял у металлических перил площадки и думал о том, где же сейчас тот благополучно кончивший свою недолгую войну тотальный солдат. Ему, должно быть, едва за сорок. Помнит ли он сырую ветреную ночь вблизи Дуная и понимает ли, что, бросив тогда немецкий карабин, сделал лучшее, что мог сделать для своей родины?
Растерзанная боевыми действиями последней военной зимы Венгрия делилась на части. На востоке страны уже наступил мир. «Венгерских порядков не ломать и своих не вводить», — гласил приказ советского Верховного командования. Там уже властвовало народное управление. Безземельные крестьяне — недавние нищие батраки — впервые готовились засевать свою землю. Юго-запад еще держали оккупанты, собирая там силы для безумной контратаки.
На низком берегу Дуная, в местечке Каталин, вблизи Эстергома, мы встречали Новый год — последний военный год. Впереди была с нетерпением ожидавшая нас восставшая Словакия. Идти бы и идти без устали вперед, но за нашей спиной еще дышала плененная венгерская столица. В окопах и в укрытиях у ее стен пришлось встречать Новый год сотням стрелковых рот и артиллерийских батарей.
Нет, армия не стояла на месте, ожидая, пока сама по себе падет одна из самых последних немецких крепостей. Один за другим брались с боя маленькие города и местечки. Давно уже сделался надежным тылом Цеглед, чистенький тихий городок с могучим монументом — памятником Кошуту Лайошу, герою венгерской революции прошлого века, бесстрашному гордому борцу за независимость родины. Бородатый и плечистый, с крутой грудью, бронзовый Кошут в высоких сапогах как бы шел к Будапешту, уверенный в том, что дойдет до него — свободного, никому не подвластного.
В январе были заняты славный рабочими традициями Чепель и юго-западные пригороды столицы — Кишпешт, Кобанья, Ракошсентемихаль, трудовой Уйпешт. Бои завязались в промышленных предместьях столицы.
А в селах и местечках на равнине, там, откуда враг был прогнан, очень быстро прошел внушавшийся гитлеровской пропагандой страх населения перед солдатами Красной Армии. Ладно сбитые парни с медалями и нашивками ранений над карманами гимнастерок сидели на кухнях венгерских крестьянских домиков — этих единственно отапливаемых зимой помещениях, ели зеленую маринованную паприку, запивали ее мутным деревенским вином, в свою очередь угощая хозяев свиной тушенкой или баночной колбасой.
С хохотом, удивляясь местным обычаям, ложились спать на перины в холодных комнатах, накрывались сверху такими же пухлыми перинами, оставляя головы в прохладе.
Мы уже не были ни загадочными, ни страшными, да и мадьяр понемногу узнавали. В населенных пунктах отыскались портные и сапожники — преотличные, между прочим, мастера. У офицеров нашлись отрезы, а в мастерских — кожа. Местные ремесленники оказались заваленными заказами. Портные скоро освоились с покроем кителей, принялись за дело и сапожники. Правда, готовые кители все же чем-то смахивали на мадьярские мундиры, а сапоги шились по привычному здесь образцу, с низким подъемом, и надевать их и снимать было сущей мукой.
Работали охотно и ошеломляюще быстро. Просьба была одна — расплачиваться продуктами: крестьяне ничего не продавали. Те, кто не имел своего хозяйства, бедствовали.
Понятно, что блага ближнего тыла доставались в основном подразделениям второго эшелона, тем, кто с техбазами и авторотами располагались на достаточном расстоянии от переднего края. Тем, кто вел бой в пригородных кварталах венгерской столицы, было еще не до портных.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
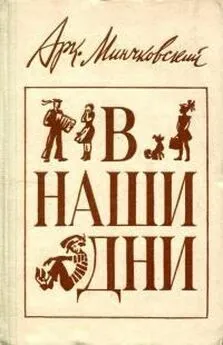
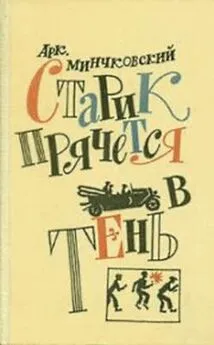
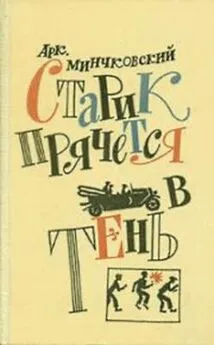
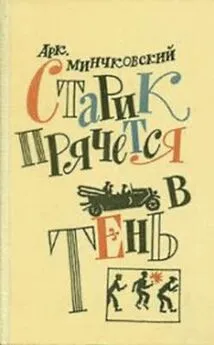
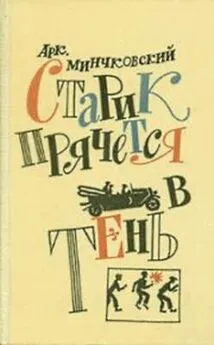

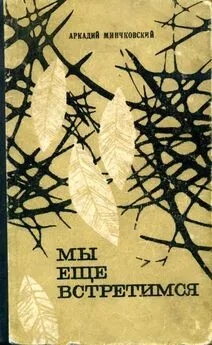
![Аркадий Минчковский - Небо за стёклами [сборник]](/books/1073677/arkadij-minchkovskij-nebo-za-steklami-sbornik.webp)