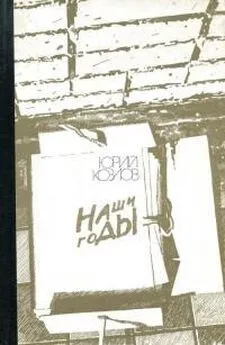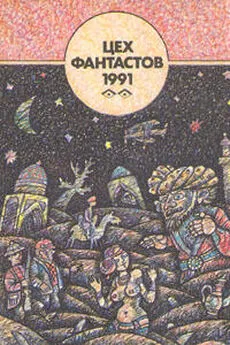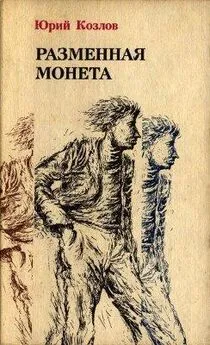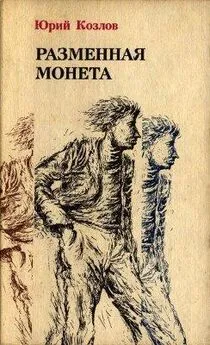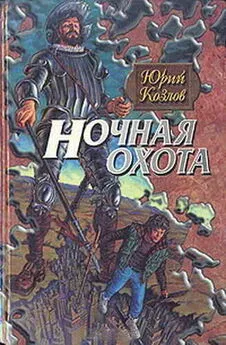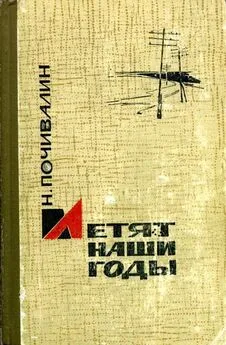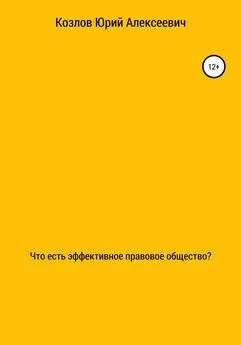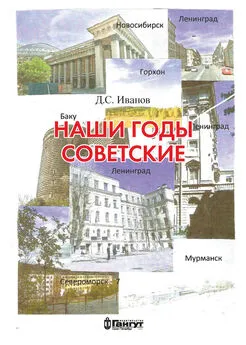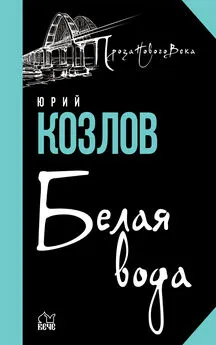Юрий Козлов - Наши годы
- Название:Наши годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Козлов - Наши годы краткое содержание
Наши годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я почувствовал, как к лицу прилила кровь. Встал, взглянул в зеркало — был красный как рак!
Но чего я стыдился?
И перед кем это мне было стыдно ночью на даче?
Я вспомнил, действительно был момент: я сидел в какой-то халупе на окраине Уэлена. Закатное солнце светило в щели, шарило по углам. Паутина под потолком вдруг показалась золотистой. Но при чем здесь сенокосец? Откуда он взялся? Где и какое сено он косит? Я сидел, не в силах оторвать взгляд от клеенки, переживая жгучий стыд за героя, который написал в прощальном письме девушке: «Прощай, вечерний паук-сенокосец надежды не принес». Да откуда он взялся, этот идиот? Господи, да как же стыдно и глупо писать прощальное письмо, когда девушка выходит замуж!
Яко птица, я взлетел на второй этаж. Там было холодно, иней мохрился на стенах, но я отыскал коробку, где хранились чукотские рассказы, вытащил их, спустился вниз, прижимая к груди свое холодное сокровище. Присовокупив к ним последний возвращенный из редакции рассказ — зачем-то я привез его на дачу, — я подумал: это к лучшему, все в сборе. Поглаживая белые, постепенно теплеющие страницы, испытывал странное чувство. Так однажды было в детстве. Не помню, на какой улице мы тогда снимали комнату, — она была подвальная, с мутными зарешеченными окнами. Я проснулся и увидел, что на улице светит солнце. Одеяло, на которое легла решетчатая тень, было похоже на шкуру зебры. Не помню, в какой класс я ходил — во второй, третий? — да и не суть это важно. Я понял: что-то в мире изменилось. Диковинную пустоту ощутил в себе, однако не гнетущую, а как бы трепещущую в ожидании: чем, каким новым интересом я ее заполню? Завернувшись в одеяло, я бродил по комнате, вслушиваясь в неожиданную пустоту, вновь и вновь рассматривая привычные предметы: облупленную чужую мебель, холсты, игрушки. Игрушки! Вот откуда пустота. С категоричной ясностью я понял: отныне мне не нужны игрушки. Не нужны, потому что стали вдруг не интересны. Я смотрел на них: на любимого своего Петрушку — совсем недавно я заставил мать сшить ему новый кафтан, на корабль с оторванной трубой, на что-то еще. Потом неожиданно шагнул к полке с книгами.
Подобную трепещущую пустоту я испытывал сейчас, прочитывая избранные странички рассказов. В детстве я легко и просто нашел новое занятие — чтение книг. Теперь это было невозможно. На все был один ответ — черная работа, которой я и так был сыт по горло. Неужто же не были черной работой попытка восстановить роман, писание чукотских рассказов? Выходило, нет. Я восстанавливал сюжет, имена, общий фон, но некий путь-познание к тем мыслям и истинам повторить не мог. Я излагал эти мысли и истины доходчивыми словами, в то время как путь-познание — если, конечно, он был, сей путь, — остался на дне реки, в пепле сожженного романа. Бездумное повторение привело к удручающим результатам. Со страниц рассказов на меня веяло пустотой. Я читал и поражался, сколько фальши, лживого романтизма, липового бодрячества — всего того, что я так ненавижу! — было в делах и разговорах героев.
Я смотрел на рассказы с равнодушием, как некогда на игрушки. Снова — в который раз! — возвращался на нулевые круги своя, на сей раз имея в активе древнюю, как мир, истину, что ценность каждой написанной строчки измеряется страданием. «И пусть! — упрямо барабанил пальцами по оранжевому абажуру. — Уж эта истина досталась мне не как повторение. Я проделал смешной, нелепый, но собственный путь к ней».
Закружилась голова. Отправился на кухню посмотреть, не прогорели ли дрова? Чистые языки огня, дышащие — малиновые и оранжевые — угли, самый вид замкнутого огненного мирка успокоил.
Повторение, подумал я, оно досталось от газеты, когда каждый день надо было — хоть умри! — выдавать сто пятьдесят строк. Было попросту невозможно проходить в каждой заметке весь путь. «Кашу маслом не испортишь!» — говаривал редактор, правя материалы, усиливая эпитеты, низводя истину даже не к очередному повторению, а к расхожему клише. «Нашу кашу маслом не испортишь!» Такие ежедневные повторения, пустопорожние констатации не требовали доказательств, которые в некотором роде тоже есть путь. Не требовали ничего, кроме умения грамотно слагать слова в предложения. Мне было известно, как делается печатное слово, как оно с неряшливых рукописных страниц перебирается на машинописные, как потом ручка гуляет по машинописи, потом делается вторая машинопись, по которой ручка гуляет уже не столь рьяно. Потом из типографии приходят гранки, где абзацы перепутаны, одни и те же строчки набраны по три раза, а иных строчек нет вовсе. Потом измученные, исчерканные гранки снова уходят в типографию и возвращаются в виде приблизительно сверстанных полос с широкими полями. И только потом в ночи тяжкая монолитная полоса-плита начинает челночить в типографской машине. Свежие, сладко пахнущие краской, номера газеты ложатся пачками на руки приемщиц. Я и сам был не последней фигурой в этом процессе, гордился этим. Когда дежурил, в уже сверстанной полосе менял заголовки, лихо рубил «хвосты», на ходу дописывал заметки, придумывал подписи к снимкам. Иногда, пользуясь благорасположением Олимпиады, диктовал информацию прямо на линотип, немедленно получал типографские оттиски. Делать печатное слово было моей профессией. Утром я видел сочиненное накануне в газете. Люди серьезно вчитывались в то, что я придумал, как мне казалось, шутя, в порыве истеричного ночного профессионального вдохновения. Каждый день я делал в газете одно и то же. Вечером же, отключившись от газеты, трудился над романом, совершенно не думая, что будет с ним дальше, сколько будет в нем страниц, когда надо его закончить. Пиша по вечерам роман, я ухитрялся забывать о газете, как будто ее не было. Газета настигла меня позже, во время вынужденного повторения романа. Сама стихия повторения не могла не вернуть к газетным категориям готового печатного слова. В газете я научился легко обращаться со словом, быть, так сказать, с ним «запанибрата». Но это было мнимое, одностороннее родство. Не с живым, а только с готовым словом. До живого слова я не поднялся, готовое отомстило мне сполна. Как только дело в рассказах стопорилось, как только надо было откладывать в сторону ручку и думать, готовое слово немедленно выводило из затруднения, охотно ложилось на бумагу. Жизнь, следовательно, уходила из рассказов, как вода из кастрюли с дырявым дном. Готовое слово было коварно и многолико, оно приходило не только и не столько из газеты, а отовсюду: из прочитанных книг, из кинофильмов, из каких-то прежних глупых разговоров. Все опутал паутиной проклятый паук-сенокосец, тоже, кстати, порождение готового слова.
Оранжевый круг по-прежнему обозначался на потолке, выхватывал сегмент паутины с черной дробиной то ли спящего, то ли бодрствующего паука в центре. В доме было холодно. Надо еще подбросить дров, подождать, пока они прогорят, и спать. Я пошел к печке, прихватил с собой рассказы. Я швырял их в красную пасть, едва успевая освобождать от скрепок. Страницы скручивались черными спиралями, рассыпались. Дышащие оранжевые и малиновые угли оказались вскоре подернутыми ровным слоем серого пепла. Ни жалости, ни боли я не чувствовал. Вечерний паук-сенокосец надежды не принес.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: