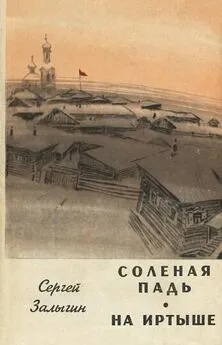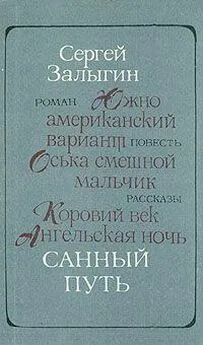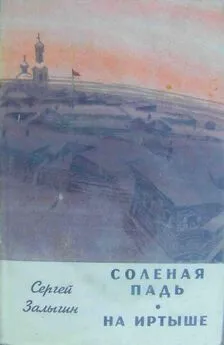Сергей Залыгин - Соленая Падь. На Иртыше
- Название:Соленая Падь. На Иртыше
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1970
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Залыгин - Соленая Падь. На Иртыше краткое содержание
«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам. Это 1931 год, село Крутые Луки. В центре — история Степана Чаузова, которого высылают как пособника кулака — он приютил семью раскулаченного. Драма Степана Чаузова в том, что благородство, человечность, приверженность к новой жизни уживаются в нем со старыми убеждениями, выработанными прошлой мужицкой жизнью.
Соленая Падь. На Иртыше - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И если с самого начала совещания заспорили Брусенков и Кондратьев, так теперь они будто шли один на один. Пощады друг другу не давали и не ждали ее.
Изредка взмахивая огромным сильным кулаком, а другой рукой по-прежнему опираясь на плечо своего товарища-матросика, Кондратьев разворачивался лысой головой в упор на Брусенкова:
— Преступно оставлять народ на произвол. Но к преступлению толкает товарищ Брусенков! Народ нынче убеждается, способны мы защитить его или не способны? Мы хотя и самодельная, ненастоящая, а все-таки Советская власть, и, глядя на нас, народ судит о настоящей рабоче-крестьянской Советской власти. О подлинной! А товарищ Брусенков? Он сегодня Советскую власть предает, а завтра — сам хочет ею называться! Присвоить имя — не дадим!
— Вот именно! — кивнул Брусенков, тоже поднимаясь. — Необходимо понять, кого защищаешь ты, кого — я! Для всеобщей ясности вопроса прочитываю документ… — И Брусенков вынул из кармана еще одну бумагу, разгладил ее, как всегда, когда он читал на людях, положил на картуз. Откашлялся. — Письмо изменника и предателя комиссара Куличенко своему другу-единомышленнику, а нашему главнокомандующему, — объявил он громко. — Написано таким образом: «Товарищ главнокомандующий, Мещеряков Ефрем Николаевич! Мы с тобой парнишками вместе были, а также солдатами революции — ты меня пойми. Я ушел с двумя полками в Заелань, ибо выполняю волю революционной массы. Когда ты массе отказываешь в защите ихних детей и крова, а белые гуляют в Заелани в свое удовольствие и тебя сильно хвалят — кто же об их позаботится, как не они сами, заеланские, и не тот командир, который еще не оторвался от народу, не гонится за службой среди других таких же служащих, а готовый в любую минуту отдать свою жизнь за народ? Но ты оторвался, не слышишь голоса массы и полностью находишься в услужении деспота Брусенкова. Чем он тебя купил даже непонятно. Просим тебя — ты пойми это еще покуда чистым сердцем, не пятнай себя и свою честь народного героя — завтра же разгони мадамов и самого Брусенкова в его главнющем штабе, а без его пагубного влияния тебе снова станет доступным голос массы и ее светлая любовь и ты будешь выполнять ее святую волю. Самая большая анархия — когда закон есть ничто, как собственный произвол и насилие, а ты нынче брусенковскому произволу подчиняешься, служишь рабски. Преданный тебе друг, а ныне командующий независимой заеланской народной партизанской армии Л.Куличенко».
Брусенков положил письмо в карман пиджака, он туда нынче складывал все свои бумажки. В тишине стал ждать, кто и чего теперь скажет. Не дождавшись, спросил:
— Каждому ли понятно, с кем заодно находится Мещеряков, когда идет разгонять главный штаб? А когда это понятно, предлагаю поглядеть, кого поддерживает Луговской штаб? Когда он тоже становится против главного штаба — не заодно ли он с Куличенко? И не на службе ли у вас у обоих Мещеряков, не по вашей ли указке главный штаб им разгонялся? Но я покуда не тебя нынче в первую очередь виню, товарищ Кондратьев. И для твоего поведения существует причина — она в Мещерякове заключена, в нем и в нем. В его появлении среди нас. Вот что мы должны окончательно и безоговорочно понять!
Кондратьев поглядел на матросика, пожал плечами.
— Он что же — нас пугает, а? Сам пугал — не вышло. Мещеряковым пугал не вышло. Теперь — Куличенко и Мещеряковым, вместе взятыми! — Помолчал и крикнул: — Не выйдет!
Матрос подтвердил негромко:
— Не выйдет, нет…
И Кондратьев еще сказал:
— Не пугай и с другого края — будто мы, Луговской штаб, уже слишком самодельный, слишком кондратьевский! Мы выбраны не тобой, а съездом делегатов Луговского района. Их представляем. А ты уже никого, кроме самого себя, не представляешь.
— Так! — кивнул матросик Говоров.
Брусенков снова усмехнулся:
— Вот-вот! Я тебя с Куличенко и сравниваю. И твою роль. Пойди в заеланские полки, с которыми он вместе совершил измену, — они тоже все, как один, за своего вождя проголосуют!
Тут Кондратьев поднялся из-за стола, прошелся по комнате.
— Как ты измену правому делу с делом путаешь? Умеешь?! Я тебе летом посылал для сведения бумагу, у контрразведчика взятую, там о Луговском говорилось. Напомню! — Кондратьев положил крупные волосатые руки на лысую голову, медленно стал говорить: — «Образец, притом самый вредный, советской партизанской власти, это так называемый Луговской район, потому что там повсюду выбраны на посты большевики и осуществлен наибольший во всей так называемой Освобожденной территории порядок…» Помнишь? Или не помнишь? «Они-то и являются главным злом и рассылают своих тайных агитаторов под видом торговцев в благонадежные волости, разлагают их…» Тоже не помнишь? Нет?
— От ребячьего ума исходит. Своими глазами не видишь, что плохо, что хорошо, — от белогвардейцев учишься понимать? — И Брусенков встал рядом с Кондратьевым, продолжил: — Ты против главного штаба. А что такое главный штаб? — спросил он у всех присутствующих. — Не покладая рук по великому желанию трудятся для народа люди из народа же, а не просто так — за жалованье, за подачки. И когда тот же Мещеряков посетил главный штаб, его отделы — народного образования, финансовый, юридический, агитационный, — он все эти отделы понял, признал их подлинное значение. Признал? — обратился он к Мещерякову. — Если честно?
Мещеряков вспомнил главный штаб. Большую комнату с осколками стекла на полу. С окном, в котором было большое и круглое отверстие.
— Признал… — сказал он.
Брусенков кивнул ему и подтвердил:
— Правильно и честно ответил. И я честно скажу за Мещерякова дальше: не признал он лишь один отдел. Военный. На один отдел он поимел личную обиду, но она ему уже превыше всего. И он пошел разгонять весь главный штаб, всю народную власть и бескорыстных тружеников народного дела! И каждый из вас, кто против главного штаба, тоже в чем-то в одном на его в обиде, но нет чтобы сказать себе: «Это обида вовсе не идейная, а за собственную личность!» Нет, не так вы все говорите, а по-другому: «Разогнать к чертовой матери главный штаб! Веры ему нету! У меня в Луговском — лучше, у меня в дремучем урмане — лучше, у меня в армии — лучше, а я сам — гораздо лучше Брусенкова!» А дальше? Кто пошел на разгон главного штаба — тот уже среди вас герой народного дела! Вот как вы нашли всеобщий язык! И, может быть, ты, Кондратьев, будешь наверху. Вполне может быть! Но правым — никогда! Я весь главный штаб от начала до конца делал. Хорошо ли, плохо ли, но только никто другой не делал этого. Другие — оглядывались, боялись совершить неправильно, жертв боялись, идею считали не до конца созревшей, поддержки в людях не видели. Луговские обнюхивались с соленопадскими, панковские — с верстовскими, верстовские — с луговскими. А я ни на что не глядел. Белые сколь раз меня чуть ли не задавливали и расстреливали — я делал. Луговские почти начисто отделялись — я делал. Революцию совершали все, на восстание шли все, поскольку, если разобраться, то это — самое первое и простое, каждому доступное. А вот власти сделать никто из вас не смог. Ни один! Революционную власть — ее надо делать уметь и успеть. Покуда контрреволюция народ по морде бьет, а тот от ее удара отворачивается — успевай! После поздно будет! А когда наша власть была успешно сделанная — тогда уже луговские со своими ячейками, панковские с мучными рублями, верстовские с армией — все пришли ко мне в Соленую Падь! Все и каждый прислонилися к власти, схватились за нее! Почему же, спрашиваю, если главный штаб плохой и Брусенков плохой, почему верстовское восстание и самая сильная армия во главе с самым хорошим командиром Мещеряковым пошли в Соленую Падь, а не Соленая Падь пошла в Верстово? Мещеряков шел — не ребенок малый, не за ручку был приведенный, а ясно знал — к чему и к кому идет. А когда так — почему тотчас стал поперек того, к чему сам же пришел? Какое на это у него право?! У кого оно — у его либо у меня? — Брусенков протянул руки, пощупал ими кого-то. Мещерякова пощупал, сжал до костяного хруста. Вздохнул. Огляделся по сторонам, спросил: — Играем? Да? Урманный главком играет в собственную самостоятельность, а я готовый порубить себе правую руку, если через месяц, того меньше, он не будет у нас. Но ведь я не уговариваю, сроду нет. Власть она не для уговора, она — опять же для власти. Ты это знаешь, товарищ Кондратьев, как начальник районного штаба. Я тоже знаю, как начальник главного штаба. Будешь ты на высокой должности — будешь действовать так же, как и я, а не то — уйдешь с позором и еще пошатнешь общее дело. Это здесь место говорить по-интеллигентски. А дома у себя? Знаю, какой ты интеллигент у себя в дому! Там тебе известно, что нам, мужикам, уговоры — тьфу! Что они есть, что их нету!.. Еще не постесняюсь спросить: почему ты, Кондратьев, когда белые к тебе близко — за Брусенкова, когда далеко — ты против его? И тотчас начинаешь связь делать с губернией, искать от города всяческой поддержки? Ведь он, Брусенков-то, тот же остается — это ты почто-то другой делаешься, особенно после того, когда товарищ Мещеряков объединил наши армии? Догадался, что силы стало у тебя больше, а власти меньше, и хочешь пропорцию навести? Не в том ли твой лозунг мировой революции? И чем ты отличаешься от дорогого тебе товарища Куличенко? Чем?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: