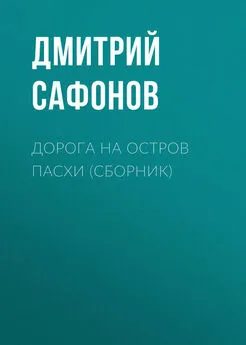Вадим Сафонов - Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести
- Название:Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Сафонов - Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести краткое содержание
Роман «Дорога на простор» — о походе в Сибирь Ермака, причисленного народной памятью к кругу былинных богатырей, о донской понизовой вольнице, пермских городках горнозаводчиков Строгановых, царстве Кучума на Иртыше. Произведение «На горах — свобода!» посвящено необычайной жизни и путешествиям «человека, знавшего все», совершившего как бы «второе открытие Америки» Александра Гумбольдта.
Книгу завершают маленькие повести — жанр, над которым последние годы работает писатель.
Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А Семен Аникиевич думал, что этот голос, скрипучий и вкрадчивый, больше всего напоминает кваканье лягушки, помазанной лампадным маслом.
Когда врач ушел, тупая боль поднялась из живота и ваныла в груди. И для Семена Аникиевича боль эта сливалась с неотступной мыслью, что не увидеть ему княжества, ни строгановской Сибири. Зачем же звали воров, шли тайно от Москвы на опасное, дорогое дело?
Что же теперь, уж их и не выдворить? Шевеля губами, морщась, Семен Аникиевич, чтобы обмануть боль, пытался считать, сколько строгановского хлеба зря съело это не в добрый час зазванное разбойничье войско. Бормотал, качая головой:
— Мышь в коробе — что князь в городе!
Гнев поднимался в нем, помутневшие глаза начинали сверкать.
— Оле ж тебе, прыткий Никитушка!
На стене висела клетка, в ней сидела пестрая заморская птица. И старику казалось, что заморская птица не принимала его попреков Никите, будто она кричала из–за прутьев человечьим голосом: «Черта впряг, аж лысина взмокла, хворый байбак!..»
Семен Аникиевич стаскивал с потной головы замызганную мурмолку.
10
Но Строгановы не отступались от игры — не в их это привычке. Игра была самой большой, какая когда–либо затевалась в строгановском роду, игра и с казаками, и с воеводой, и с самим царем.
По гнилым мосткам через четверо чердынских ворот вползали обозы с щедрыми строгановскими дарами воеводе. Дары назначались для того, чтобы око государево спокойно дремало и не глядело, что творится в Усолье.
Око государево было — вдовый князь Елецкий. Чердынские люди также носили ему, по заведенному обычаю, свои дары, кому сколько по силе. Сила у них, правда, невелика, но князь Елецкий не привередничал. Если «нос» оказывался не денежный, а вещевой — кованый ларец или медвежья шкура с оскаленной мордой, воевода оглаживал его рукой; дареный мед сам непременно пробовал деревянною ложкой. Затем виновато сообщал ключнице, правившей домом:
— А мы с носом, Агафыошка, мы с носом!
Авось ключница простит, что мал «нос».
Когда через болота, через бездорожные леса добирался в Чердынь посланный из далекой Москвы, воевода разглядывал его: не боярин — дуб мамврийский, тугой каменный затылок. И князь среди разговора наводил:
— Государь–то где?
Московский человек отвечал, что царь в Слободе или что на малое время приехал в Кремль.
— Ты видел его? — И понизив голос: — Как он, ну?
Уже выпили по чарке. Наставало доброе доверие.
И, расцепив челюсти–жернова, гость объяснял, что царь грозен и лют.
— Да тебе что, князь? Тебе–то все едино, будь хоть сатана из пекла. До тебя и в год не доскачешь.
Тогда воевода говорил пегромко:
— От обычаев прадедов отступился… Камизолыциков полна Москва… Аглицкий царь!.. У нас душой отдохнешь, Самсон Данилыч.
Приезжий тоже умерял свой голос–рык.
— Коль в одиночку — один конец… Дерево за деревом — так и весь лес свести недолго… А Русь, с Русыо–то что станет? Страшно вымолвить, подумать страшно. Русь наша матушка! Нища. Разорена. Кровью истекла на ливонских полях. Кровью поплыла Москва: весь народ на плаху положить готов…
Старый князь уже охмелел от двух или трех новых чарок, кругом стояло всегдашнее нерушимое спокойствие, и во всем этом тихом спокойствии по–прежнему набольший он сам. И, стукнув по столу, князь, уже не таясь, возглашал:
— Соборне надо. Соборне!
11
Казаки несли свою службу в Усолье.
Разбившись на отряды, они караулили страну.
Она лежала чащами и взгорьями, болотами и каменными грядами, огромная и пустынная, вдоль пустынных рек. Лось, фыркая, сбрасывая с отростка рога застрявшую ветку, несся папоротниками к скрытому водопою, эхо повторяло дробный стук его копыт. Желтая вода сочплась в медвежий след, похожий на человечью ногу. Пожар красной ягоды охватывал в августе поляны. Стервятники кружились над тем местом, где валялся павший зверь, расклеванный, до кости ободранный голодными зубами.
Среди лесов катились быстрые реки.
Ночами обступал жилье волчий вой.
У околиц слободок валили деревья, корчевали и жгли вековые пни. Бурелом занимался от палов. Он горел, как порох, с треском и пальбой, листва никла и скручивалась, горький дым, медленно вращаясь, восходил между березами. И солнце висело в мертвенных венцах на тусклом, померкшем небе.
Тогда в непролазной глуши из своего жилья выходил исконный лесной житель — охотник–вогул. Он тянул носом гарь, нахлобучивал шапку из бересты и, вскинув голову, на худых упругих ногах шел медвежьими лазами, под бородами лишаев на столетней коре, в еще более глухую дичь, где в медной воде шевелились черные пиявки.
Угрюмо надвинулась осень и мочила дождями, по черным ночам завывала в логах, пока не улеглась зима.
Светлые, узорно разубранные, окованные, лежали камские места под низким солнцем короткого дня. И отряхнув белый прах с пимов, потирая лица в дымном избяном тепле, говорил народ: «Старик шутник на улице стоять не велит, за нос домой тянет».
Миновала и долгая зима. Побурел в ямах последний снег, весна зеленым пламенем пробежала по клейкой глине обрывов.
Девушки с венками на головах собирались на лугу, расплетали косы, пели, плясали и пускали венки по воде.
И опять жар подымался от земли. В сумерках волки подходили к варницам и лизали соль.
Стояли белые ночи.
К концу лета лилово зацветал высокий узколистый иван–чай. По утрам окатывали росы.
Год завершал свой круг.
Гаврила Ильин летом ездил с казачьей станицей на север. Отъехал от станицы и взял путь прямиком — все ополночь. Увидел мочажины, и выворотни, и лесные кладбища — пеньки. Крошечные булавы кольчатой мышиной травы торчали на болоте. Открылась гора, вовсе черная, как из печной сажи. Внизу сгрудились избы — ворота с кровельками, как в шапочках, наличники резные, расписные ставенки, островерхие крыши с венцом. Коза блеяла из подворотни, высовывая бледно–розовый язык.
Ильин постучался в избу. Хозяева глядели хмуро. Но угостили сытно. Вечер долго не угасал. Казак вышел на улицу. Конь его жевал под навесом хрусткую траву с жесткими болотными резунцами. На топкой елани молча, без песен, плясали парни и девушки. Только слышались чавканье ног в грязи, короткий смех, негромкие голоса. Казак постоял, поглядел, его будто не замечали, он вернулся в избу.
Хозяин тоже не спал. Он вращал при светце тяжелое точило. Кругом разложены диковинные камни. По одному бежали багряные и молочные жилки и складывались так, точно ладья ныряла посреди ледяных глыб. Вишнево отсвечивал камень кровавик. Были камни, полные дыму. И тусклое солнце сияло внутри как бы застывшей водяной капли.
В притолоку стукнули. Вошел сосед. Согнувшись, он долго рассматривал на светец то, что обтачивал хозяин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
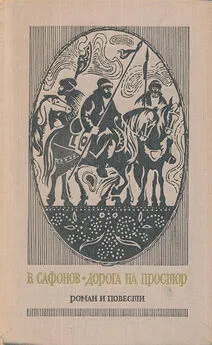

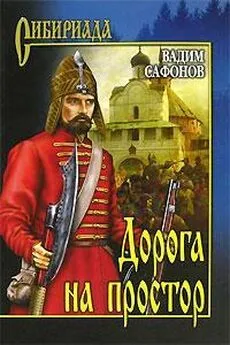

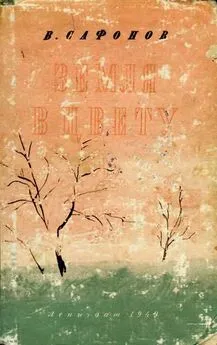
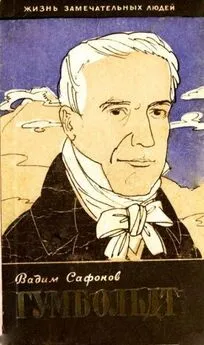
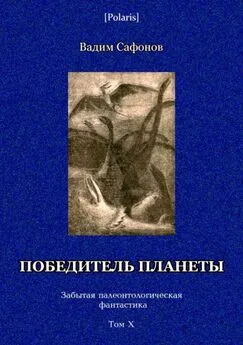
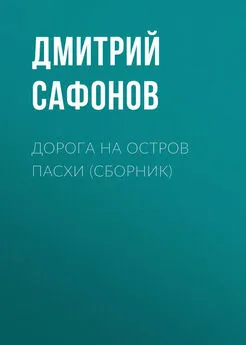
![Андреа Вульф - Открытие природы [Путешествия Александра фон Гумбольдта]](/books/1072978/andrea-vulf-otkrytie-prirody-puteshestviya-aleksan.webp)