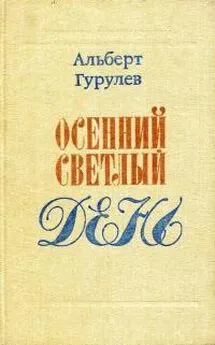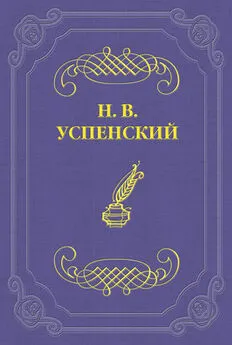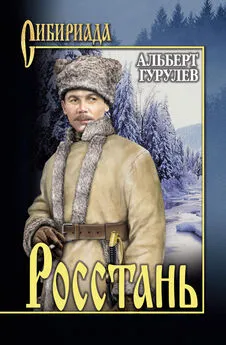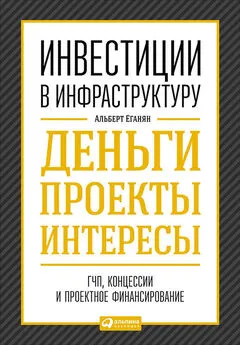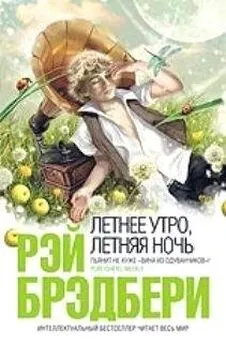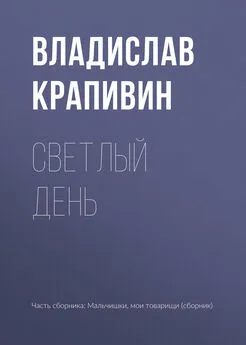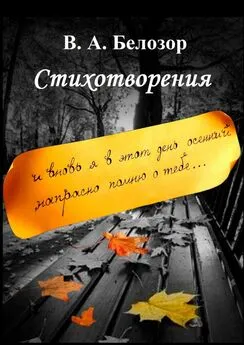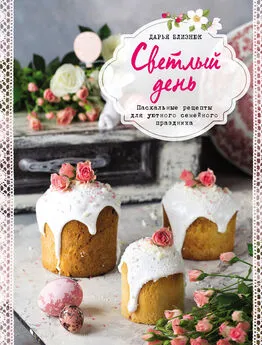Альберт Гурулев - Осенний светлый день
- Название:Осенний светлый день
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберт Гурулев - Осенний светлый день краткое содержание
Эта книга о жизни людей тайги, сибирских деревень, с их сегодняшними нуждами, проблемами, заботами, о нелегком труде таежных охотников.
Осенний светлый день - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Ему (Зензинову) удалось самому прожить с людьми, которые не знают и не хотят знать изменчивой судьбы веков, которые живут, вне сомнения, так же, как и их пращуры, впервые пришедшие к Ледовитому океану на Индигирку, возможно, еще при Иване Грозном и уж не позднее царствования Алексея Михайловича. За эти 300—350 лет они подверглись здесь, в царстве норд-оста, снега и льдов, своего рода анабиозу: застыли со всем укладом своей жизни, своей мысли и своего говора и оттаять пока не могут.
Грустно ли это, нормально ли — вопрос другой. Но раз факт существует, он приобретает ценность чрезвычайно выдающегося явления. Я думаю, что археолог считал бы для себя величайшим счастьем, если бы, раскопав могилу XVI-го или XVII-го веков, он мог хоть сколько-нибудь правдиво облечь вырытый им древний скелет в надлежащие одежды жизни, дать ему душу, услышать его речь. Древних людей в Русском Устье ему откапывать не надо. Перед ним, в Русском Устье, эти древние люди как бы и не умирали».
Удивительно!
Со времени опубликования книги прошло более семидесяти лет, за эти годы авиация сделала самые отдаленные медвежьи углы близкими и доступными, цивилизация стерла во многом приметы местной жизни, и, конечно, надежды на сохранность этого «музея древности» не было.
И верно — нет музея. Или почти нет. Начать хотя бы с того, что ощущения дальности, оторванности Севера от материка особенно и не чувствуется. Если еще совсем недавно путь от Иркутска до Якутска даже на самолете занимал не один день, не говоря уже о пути по земле и далее сплавом по Лене, то сейчас и вздремнуть в самолете по-доброму не удается: за те всего два с половиной часа, которые требуются на взлет, перелет и посадку, сильно-то не разоспишься. Еще не отошел человек от иркутских воспоминаний, как уже: «Граждане пассажиры, прошу пристегнуть привязные ремни, наш самолет…» И уже в иллюминаторы светит с аэровокзала неоновыми буквами слово «Якутск». Дальнейший путь — тоже ничего особенного: перелет, занявший чистого времени в воздухе немногим больше четырех часов, и вот он, поселок Чокурдах — центр Аллаиховского района, откуда рукой подать до Русского Устья — самого северного поселка нашей страны. Дальше — лед, торосы, Северный полюс, Канада.
Следуя традициям путевого очерка, здесь, пожалуй, нужно сказать несколько слов о районе. По якутским понятиям район маленький, всего чуть больше ста семи тысяч квадратных километров. Расположен за Полярным кругом. Население меньше шести тысяч. Ведущее место в экономике района — оленеводство, пушной и рыбный промыслы.
Русскоустьинцы, как их деды и прадеды, занимаются только охотой и рыболовством.
Здесь я должен, правда, поправиться; поселка Русское Устье больше не существует, а есть Полярный. Четыреста лет название людей устраивало, оно точно выражало суть явления, но когда поселение было вынуждено переехать на более высокий берег, то Русское Устье по чьей-то воле превратилось в Полярный — один из нескольких Полярных, разбросанных по нашей Арктике. Полярный в Мурманской области, Полярный в Магаданской области, Полярный… Вызывает это такое же чувство, когда в больших и малых городах, в поселках новых и старых — всюду от Тихого океана до Карпат — видишь непременные кинотеатры «Дружба», кафе «Юность». Или, наоборот, кафе «Дружба», кинотеатр «Юность». И эти слова — слова-то хорошие! — от бездумного и казенного повторения теряют свой блеск, становятся унылыми, затертыми.
Так и с именем Русское Устье. Честно говоря, мне жаль старого названия — Русское Устье. Да и сами потомки землепроходцев, хоть и привыкли к новому слову и в обиходных разговорах уже не запинаются об него (летим в Полярный, живем в Полярном, у нас в Полярном), — называют себя по-старому: мы — русскоустьинцы… Тут надо пояснить, что Русским Устьем называлось все понизовье Индигирки, где в свое время стояли поселения русских; Косухино, Станчик, Стариково и еще несколько других. Но наиболее значительным из них, многолюдным, центральным — было поселение Русское Устье.
Нередко критики сетуют на то, что многие путевые очерки начинаются словами «Наш самолет…», но когда пишешь об Арктике, без этих слов никак не обойтись. Здесь каждая поездка начинается с самолета и им же заканчивается. Итак, наш самолет — теперь уже маленький, тесный одномоторный биплан — взлетел с Чокурдахского аэродрома и взял курс на север — на поселок Полярный.
Несколько слов о Чокурдахе. Издали поселок казался, даже из Якутска, стоящим на самом краю земли и если не совсем забытым богом и людьми, то, по крайней мере, основательно оторванным от Большой земли. Но только издали. Уже первый день жизни в Чокурдахе внес серьезные поправки в эти представления. Дома как дома. Быть может, только слишком стандартные. Магазины как магазины. В овощных магазинах — а это уже конец марта — лежала на витринах и картошка, и не какая-нибудь сушеная, а самая настоящая, лежал репчатый лук — продукты, до недавнего времени для Крайнего Севера наособицу редкие. В общем, хороший, современный районный центр.
И окончательно «доконал» нас еще один серьезный факт. Когда мы улетали в Полярный, на Чокурдахском аэродроме совершил посадку толстобрюхий ИЛ-18.
— Это откуда такой красавец? — спросили мы Михаила Владимировича Хаустовича, работника райкома партии, гостеприимно согласившегося поехать с нами в Полярный.
— Из Москвы, рейсовый, — буднично ответил Михаил Владимирович и посмотрел на часы. — Прибыл вовремя.
Какой уж тут край земли, какая уж тут оторванность от мира, если при желании можно пойти в аэропорт, а он тут рядом — то ли аэропорт при поселке, то ли поселок при аэропорте — и в тот же день оказаться в Москве.
…Итак, наш самолет… В общем, как говорил Валентин Распутин, нам оставалось сделать самый маленький, самый короткий прыжок: путь до Полярного занимает чуть более получаса. Самолет летел низко, и мы приникли к иллюминаторам, стараясь почувствовать этот край, впитать его в себя, стараясь понять, почему край так привлек русичей, почему они остановились здесь, не устремились в более благодатные края.
Мы — это уже не только Валентин Распутин и пишущий эти строки. Из Якутска вместе с нами полетел заведующий бюро пропаганды художественной литературы Василий Егорович Васильев, и прежде бывавший в этих краях, а из Чокурдаха — на правах хозяина — Михаил Владимирович Хаустович.
Шел конец марта, даже в Сибири уже вовсю позванивали ручьи, пробовали свои голоса после дальнего перелета первые жаворонки, вырядилась в сережки верба, а здесь, внизу, проплывала напрочь забывшая о тепле снежная пустыня. И хоть я написал, что проплывала, но порой казалось, что самолетик хоть и натужно гудит мотором, а все без толку. Он словно замер на месте: внизу только белая равнина, глазу не за что зацепиться. И — главное — хоть мы и летим на низкой высоте, но не приметили в тундре и малых, самых робких признаков жизни. И совсем неуютно стало на душе, когда представил нависшую над этими полуночными краями беспросветную многонедельную «полярку» — сверхдлинную ночь. Мрак, хлад, глад.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: