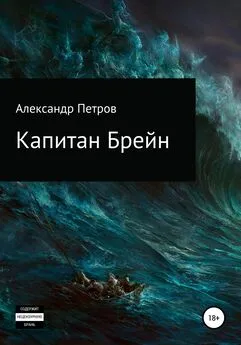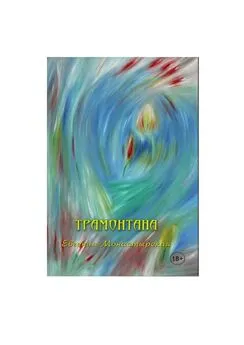Петр Сажин - Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
- Название:Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:Москва
- Город:1963
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Сажин - Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень краткое содержание
В книгу Петра Сажина вошли две повести — «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».
Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев — человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.
В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо–восточный ветер — трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).
Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Предложение этого маленького человечка вызвало у меня неприятное чувство. Он, очевидно, заметил это и вдруг весь преобразился — в его лице появилось достоинство, он выпрямился и сказал обиженным тоном:
— Вы, наверное, меня неправильно поняли? Я сам буду писать, вон мой мольберт!
Он указал на одиноко стоявшие треногу, раскладной стул и коробку этюдника.
— Между прочим, — сказал он так, будто забыл сообщить самое главное, — не бойтесь, задержу недолго, возьму недорого!
Я хотел отказать ему и уже взял было под руку Ларису, как вдруг она спросила:
— А маслом вы можете написать портрет?
— Маслом? — спросил он, задумавшись, словно решая, стоит ли ему возиться и сумеем ли мы заплатить как следует. — Маслом? — переспросил он и вдруг быстро заговорил: — Да, конечно, могу… Могу гуашью или пастелью, как вы хотите… Сам я, правда, больше люблю акварель. Акварель дает сочные тона и прозрачность, она как бы излучает свет, то есть дает аромат жизненности… А масло — масло хорошо для монументальной живописи. Но если хотите, я к вашим услугам, А где писать вас? У меня, видите ли, нет своей мастерской…
— А если у нас? — сказала Лариса. — У нас в номере, в гостинице?
— Отлично! — сказал он. — Когда можно приступить к работе?
— Завтра, — сказала Лариса и, взяв меня под руку, назвала художнику гостиницу и номер. Когда мы отошли к Исаакию, она повисла на моей руке и прошептала: — Ты не сердишься?
Я сказал, что сердиться не сержусь, но напрасно она это затеяла: зря время потратим.
Лариса сжала мне руку:
— Ох, Степочка, какой же ты у меня хороший! Как я тебя люблю, если бы ты знал!
К сожалению, я не мог тогда предполагать, что встреча с бродячим художником будет иметь для нас тяжелые последствия.
На другой день Лариса поднялась чуть свет.
Она прошлась по номеру, словно что–то разыскивая, котом остановилась у окна, раздвинула занавеси и долго глядела на город.
Ленинград пробуждался: с улиц уже слышался глуховатый шум, где–то протяжно выли гудки, от вокзала доносились вздохи паровозов.
Я смотрел на Ларису и не мог понять, что встревожило ее. Почему она так рано поднялась? Постояв у окна, она отошла к зеркалу, рассыпала по плечам волосы и стала их расчесывать… Волосы у нее, профессор, мягкие, длинные, они не растут, а как бы льются, словно шелковые струи. Расчесав и уложив их, она принялась «шпаклевать» лицо. Намажет одним кремом, затем снимет ваткой. После этого накладывает другой. Я не мог понять, зачем она мазалась.
В Ленинграде женщины бледные. Им, вероятно, и нужна была вся эта штукатурка. А ей зачем? Когда она была готова, мы сели завтракать. И за столом она была неспокойна, словно чем–то встревожена, ела плохо.
Я спросил ее, что с ней. Она пожала плечами.
— Так… Ничего… Сама не знаю…
— Ты, может быть, нездорова? — спросил я.
Она покачала головой.
— Нет, я здорова, — улыбнулась она, — ты не тревожься, Степочка, я совершенно здорова!.. Но так, знаешь… грустно что–то мне стало, и спала я плохо…
Она снова как–то через силу улыбнулась и встала из–за стола, посмотрела на себя в зеркало, затем подошла к окну, постояла немного, что–то написала пальчиком на пыльном стекле, повернулась ко мне и спросила:
— Как ты находишь меня, Степочка?
Я ответил ей, что она очень хороша. Она подошла, положила руки мне на плечи, вздохнула, затем прижалась щекой и сказала:
— Я гадкая… За что ты меня только любишь?
Я хотел ответить ей, но в это время в дверь кто–то тихо, словно царапаясь, постучался.
— Войдите, — сказала Лариса.
В дверях показался художник, тот самый красноносый тип. Я забыл о том, что он должен был прийти сегодня. Теперь я понял, зачем Лариса так рано поднялась с постели и долго сидела перед зеркалом. Вот для него, для этого доморощенного Рембрандта.
Художник поклонился мне, а Ларису осчастливил — поцеловал руку. Он был в том же, с потертым бархатным воротником пальто и в разбитых туфлях. От них несло гуталином, — очевидно, перед тем как подняться к нам в номер, он надраил их у чистильщика в вестибюле гостиницы.
Я предложил ему раздеться. Когда он снял пальто, на нем оказалась длинная бархатная блуза. Из–под воротника ее торчал белый как снег широкий крахмальный воротничок. На месте галстука — черный бант. Он одернул блузу, облизал губы и растерянно смотрел то на меня, то на Ларису, то на стол. Очевидно, он был голоден. В то время существовали карточки и всякие там ЗРК. А у нас на столе — ветчина, дальневосточные сардины, икра, сыр; все это мы прихватили с Востока.
«Рембрандт» — с моей легкой руки мы стали его так называть — с виду был неказист. Маленькие, совершенно круглые, похожие на пуговки глазки и бесцветные ресницы. Брови реденькие, белесые. Нос, как волнолом, большой и толстый. Губы сборчатые, стариковские. Уши небольшие, но сухие, хрящеватые… В общем, уродец какой–то. А вот руки дал ему бог тонкие, гибкие — они все время были в движении, словно разговаривали… В общем, он выглядел лучше, чем накануне, этот чертов «Рембрандт», будь он проклят!
Кирибеев вскочил и снова зашагал поперек каюты, на ходу продолжая свой сбивчивый рассказ, то с утомительными подробностями, то с недомолвками, то просто говорил: «Опустим этот эпизод — он не представляет интереса». Хотя мне казалось, что эпизод, который Кирибеев «опускал», и содержит в себе главное.
Я, конечно, ничего не мог сделать: Кирибеев был для меня словно книга, в которой по капризу ее автора что- то недосказывается, а что–то излагается с такими подробностями, которые ленивый читатель лишь «пробежит», стараясь скорее добраться до «самого интересного».
В ожидании этого «самого интересного» я, как говорил Пушкин, «питался чувствами немыми». Я ждал, когда Кирибеев наконец перейдет к тому моменту, когда из–за этого «чертова Рембрандта» он «сошел с курса». А капитан рассказывал о том, как он пригласил к завтраку художника, как тот делал вид, будто только что отобедал с самим датским королем.
О том, как «Рембрандт» начал писать портрет Ларисы, Кирибеев не стал рассказывать. «Это дело не по моей специальности». Но Лариса была довольна. Художник «колдовал» у мольберта целый день, делая наброски с Ларисы то в профиль, то анфас.
Капитан Кирибеев просидел в номере весь день.
«Рембрандт» работал с усердием, на его крупном носу блестели капельки пота. Он быстро смахивал их платочком, давно не бывавшим у прачки, и всякий раз при этом краснел. Но ненадолго; как только увлекался работой, забывал обо всем. Глазки его горели, а руки…
Кирибеев так красочно рассказывал о нем, что я живо представил себе художника, его вдохновенное лицо, горящие глаза и быстрые движения рук.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




![Михаил Бобров - Трамонтана [СИ]](/books/1092108/mihail-bobrov-tramontana-si.webp)