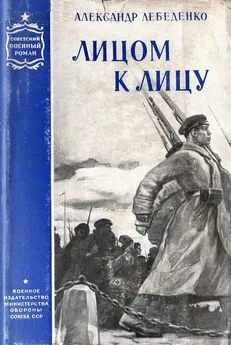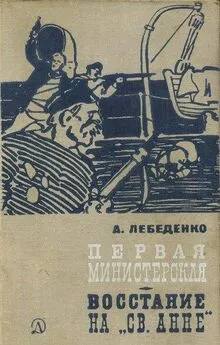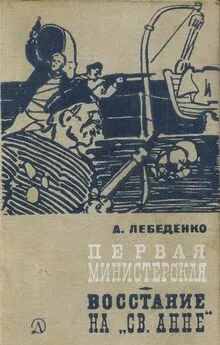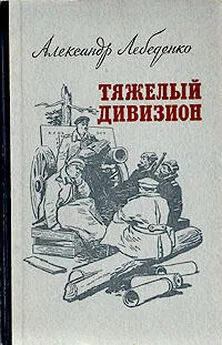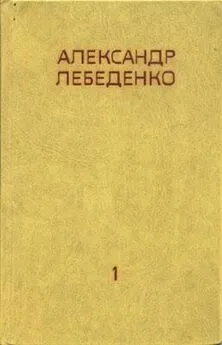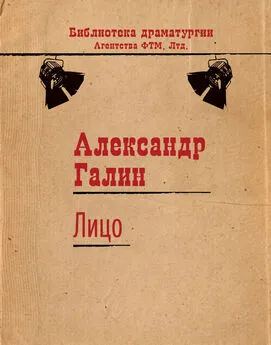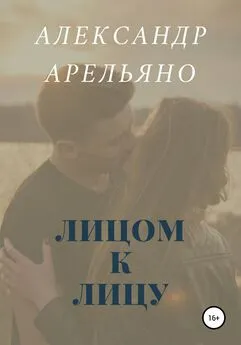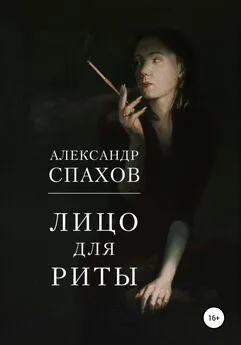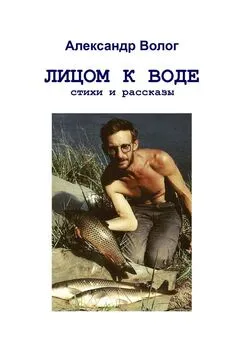Александр Лебеденко - Лицом к лицу
- Название:Лицом к лицу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военное издательство Министерства обороны союза ССР
- Год:1960
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лебеденко - Лицом к лицу краткое содержание
Много ярких, впечатляющих романов и повестей написано о первых днях Октябрьской революции. Темой замечательных произведений стали годы гражданской войны. Писатель показывает восемнадцатый год, когда по всему простору бывшей царской России шла то открытая, то приглушенная борьба двух начал, которая, в конце концов, вылилась в гражданскую войну.
Еще ничего не слышно о Юдениче и Деникине. Еще не начал свой кровавый поход Колчак. Еще только по окраинам идут первые схватки белых с красными. Но все накалено, все пропитано ненавистью. В каждом доме, в каждой семье идут споры, зреют силы будущих красных и белых армий. Страна находится в ожидании взрыва. И этот взрыв не заставил себя ждать.
Лицом к лицу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ПИКНИК НА СНЕГУ
Батарея участвовала теперь во всех боях дивизии. Она не только двигалась вперед за пехотной цепью, но и металась вдоль фронта.
Это не были тяжеловесные, продолжительные бои империалистической войны, когда обе стороны в смертельном ужасе, заглушившем все человеческие чувства, устилали трупами межокопную полосу ничьей земли, терзая сталью и взрывами километры полей и перелесков, осколками и пулями раздевая донага зеленые опушки прифронтовых лесов, — все для того, чтобы перешагнуть наконец проклятый, обтянутый колючей проволокой рубеж.
Захватив инициативу, красные теснили белых, не поддерживаемых большинством населения, к Риге и к морю. То здесь, то там они собирали кулак, подкрепляли его артиллерией и рвали фронт противника. Ни крупных конных масс, ни больших резервов, способных развить успех и превратить его в катастрофу для врага, не было.
И комполка, и командиры батальонов, и штабное начальство не скупились на комплименты дивизиону. Точная и действенная стрельба была на виду у всех. На фронте были только немногочисленные трехдюймовые батареи, и спутать мортирные разрывы нельзя было с действием легких гранат. Альтшванебург исправно поставлял снаряды. Мобилизованные возчики, сдав на батарею партию снарядов, пускались в обратный путь и через несколько дней опять догоняли дивизион с новым запасом бомб и шрапнелей.
Зато добыча фуража осложнялась с каждым днем. После боевых действий она становилась первой задачей и первой заботой дивизионного начальства. Вдоль всех дорог рыскали разведчики и даже командиры, отыскивая в закутках, на чердаках, на лесных полянах, на луговинах припрятанное сено. Платили любые деньги, выдавали квитанции, но беспощадно забирали все, что можно было скормить лошадям.
В Алексее проснулась крестьянская хозяйственность. Он помнил каждое пустое гнездо в зарядном ящике, каждый каптерский мешок с сахаром и сапогами. А недостаток сена и овса угнетал его, как мысль о дожде в засуху. Если позади батареи не шел туго увязанный и закрытый брезентами трехдневный запас фуража, он терял веселую повадку, которая все еще была свойственна ему, ходил хмурый, озабоченный, хлестал нагайкой по заборам и иссохшим безлистым кустам. Он гонял тогда ординарцев по дальним фольваркам, вызывая даже протесты Синькова, который держал разведчиков при начальниках ближних участков, не надеясь на телефонную связь.
Алексей понимал, что Синьков прав, но продолжал гнуть свою линию. Он хорошо знал эту господскую психологию: «Мы хорошо знаем наше дело, мы хорошо его ведем, а уж все, что нам необходимо, — гони! Откуда? как? — нас не касается». И дальше то, что не говорилось вслух: «Нечем? — Не воюй». Но сам он знал, что в тылу лежит разоренная трехлетней войной и плохими хозяевами страна. Он видел ее замирающие города, замк-пудовики на воротах заводов, толпы безработных у биржи, ее разбогатевшие землей и обедневшие конским тяглом и инвентарем деревни, и у него болело сердце за эту большую, отвоеванную им и его товарищами землю, которой не давали вздохнуть, оправиться, зализать гноящиеся раны.
Он знал, что сейчас нет для этой страны ничего важнее, как сорвать со своего горла руку врага, победить в гражданской войне, но каждое усилие страны, не жалея бросавшей на фронты хлеб, снаряды, одежду, мясо, он наблюдал с двойным чувством: он рад был ее выносливости, ее воле к победе и тосковал при виде гор добра, которые пожирала эта священная и неизбежная, тяжелая и героическая война. Сам он готов был отказаться от половины пайка, от новых сапог, даже — черт возьми! — от курева, и в то же время он готов был броситься на интенданта, отказывавшего его батарее в починочном материале, палаточном брезенте или махорке.
Красные всюду встречали сочувствие батраков эстонцев и латышей, крестьян-середняков. Но не у них было сено, не они располагали запасами овса. А крепкие хозяева — «серые бароны» — глядели волками на красноармейских фуражиров и готовы были скорее сжечь свое добро, нежели отдать его красным.
За всеми этими мыслями, за заботой, которая стояла за плечами каждого приходившего к нему человека, Алексей забывал о себе, о своем. Мысль о Вере обжигающим током пронизывала его в самое неожиданное время, между двумя заботами. Память кольцевым вихрем поворачивала в сознании последнюю встречу, ветер латвийского поля нес запах тонких волос, но кто-нибудь обращался к нему, и новые заботы занимали свое хозяйское место. Синьков уже посылал ординарца с почтой на станцию. Алексей не протестовал, но сам письма не сдал, чтобы не закреплять эту моду. Он не дал Вере телеграммы из штаба, потому что провода были загружены, а командиры ругались у окошечка телеграфиста.
А ему хотелось написать Вере. Но какие коротенькие фразы могли ей сказать все, что нужно, и когда он мог просидеть над письмом часы, чтобы смягчить это свое молчание многими, полными горячей благодарности словами? Ему хотелось похвастать перед нею. Его политика по отношению к Аркадию была верна. Он сохранил для армии хорошего специалиста. Он мог ей написать, что теперь он без особого раздражения смотрит в глаза Синькову и слушает его скрипучий в моменты неудовольствия голос. Вере неплохо было бы узнать, каким поступком Синьков еще больше поднял свой авторитет у красноармейцев и даже у коммунистов.
Холодным утром, когда красноармейцы, начиная дневной поход, еще ежились в шинельках, хлопали друг друга по спине, бегали взапуски, чтобы согреться, дорогу пересекло небольшое озерцо, затянутое свежим льдом. Обхода не было, озерцо было неглубокое, и первое орудие пустили на пробу. Правое колесо провалило лед, но кони с размаху вынесли гаубицу на берег. Благополучно проскочил и зарядный ящик. Но уже второе орудие застряло на самой середине озера, изломав весь лед. Ездовые неистовствовали, нагайки рвали шерсть коренников, но кони бились в холодной воде по брюхо, и колеса все больше уходили под лед. Озерцо на глазах превращалось в страшную ловушку. Красноармейцы беспомощно стояли по берегам, глядя, как бьется упряжка на середине ледяного, дающего все новые трещины круга.
— Слезай в воду! — скомандовал Синьков ездовым.
Но ездовые, получавшие вместо сапог ботинки и обмотки, только выше подобрали ноги.
— Бери! — крикнул Синьков и бросил повод ординарцу. Он соскользнул с седла и в тонких, истоптанных и порванных сапогах вступил в воду.
— Ребята, навались! — крикнул он с молодым, уверенным задором.
Алексей уже стоял у другого колеса. Они весело смотрели друг на друга. Командиры и красноармейцы, в сапогах и обмотках, не разбирая, по льду и по воде неслись к орудию. С татарским кочевым криком вышло орудие на берег. Но люди не уходили. Теперь орудия входили в воду меж двух стен стоящих в ледяной воде людей и выбирались на противоположный берег без задержки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: