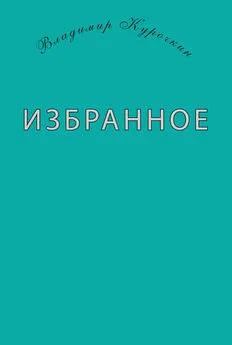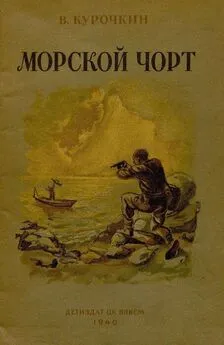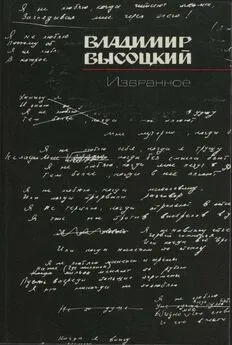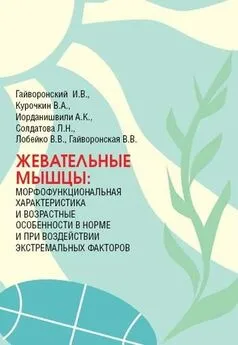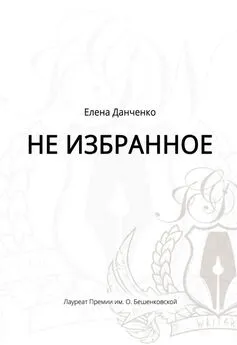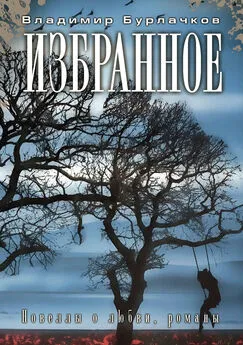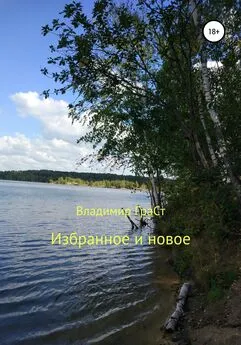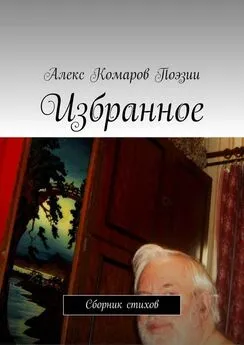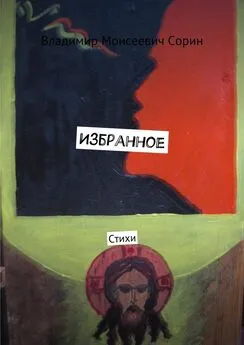Владимир Курочкин - Избранное (сборник)
- Название:Избранное (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентСогласиеbc6aabfd-e27b-11e4-bc3c-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906709-24-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Курочкин - Избранное (сборник) краткое содержание
«Избранное» Владимира Курочкина составили роман «Мои товарищи» (1937), в свое время вызвавший бурные читательские дискуссии, а также повести и рассказы, написанные с 1936 по 1946 годы. «Мои товарищи» – роман в новеллах – исторически самая ранняя форма романа. Особенность жанра фактурно связана со свежестью молодого мироощущения и незаконсервированностью судеб героев. Ромен Роллан писал о произведениях Курочкина: «…в них чувствуется радостный размах сверкающей юности. Вспоминаешь пламенность персонажей Дюма-отца и эпический тон Виктора Гюго в его романе „Девяносто третий год“…».
Избранное (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Да, плавали. С англичанами торговали. Берега эти осваивали, – продолжил с таким жаром боец в очках, словно это он сам плавал и торговал с англичанами. – Селились тут, жили. Мелиоратировали землю.
– А кому она, земля-то эта нужна? – глухо раздалось из-под плащ-палатки, но глаз не открылся. – Пустельга земля-то. Это тебе не вишня в Ставрополыцине… Немцы-каты всю ее пожгли…
– Не в вишне, понятно, суть, но больно уж старину ты, друг, копнул. Может, и жили тут наши, да ведь при царе Горохе, – сказал кто-то из задней части кузова.
И студент, и его противник сразу же дали в один голос отпор, но каждый по своей теме: «Старина-то, старина, да не чужая. Почитай-ка труды, академические…» – резанул студент. – А ты ее, вишню-то эту кусал?» «Небось и слыхом не слыхивал, что это такое наша ягода-майка весною?..» – рявкнуло из-под плащ-палатки. Но всех перебил румяный боец. Он вскочил и, стуча по крыше кабинки, заорал шоферу:
– Слышь-ка, стой, говорят! Посади ты его! Знакомый нам!
Все это произошло необычайно быстро, пассажиры только и могли понять, что машина затормозила около бойца, стоявшего на дороге с поднятой рукой. При нем были лыжи, а свежая колея на снегу показывала, что он съехал к шоссе прямо с горы из черного неприветливого малорослого ельника.
– Ты его откуда знаешь? – тихо спросил боец в очках, когда новый пассажир, сунув лыжи, влезал в кузов.
– А что мне его особо знать? Разве не видно – человек. Стоит, мерзнет. Шоферы ныне, что твоя тигра, осатанели. Им – топай себе до шлагбаума, жалости совсем нету. А я – нет, не будет по-твоему, сам стоял, знаю, – хитро пояснил румяный.
А машина между тем опять набрала скорость и летела, словно сожалея о потерянных минутах, солидно потряхивая на поворотах всю компанию в кузове.
– Подумать, сколько народа война с мест подняла. Этих на юг, а этих на север, – снова заговорил какой-то пассажир, глядя на нового человека, который его поразил сочетанием круглых светлых глаз на скуластом, монгольского склада, лице. – Все перемешалось. Русские, армяне, украинцы, белорусы, вологодские, узбеки, уж и не разберешь иной раз, с кем говоришь.
– Да, полный конгломерат, можно сказать, – ввернул боец в очках.
– А что, кунак? – пододвинулся к новому человеку румяный боец, расцветая ласковой улыбочкой. – Верно, не с руки на этих дощечках скакать? Южному то товарищу морока одна с лыжами.
Но лыжник сказал, не очень чисто по-русски, что он привык к этому способу передвижения, а на юге ему совсем не приходилось бывать.
– Так значит, – подумал с минуту румяный, – из Сибири, выходит, твоя личность?..
– Нет, он здешний, – просто сказал лыжник про себя в третьем лице.
Тут все так и впились в него глазами.
– Саам? – быстро спросил студент с волнением, что другие опередят его в этой догадке.
– Нет, он русский. Его имя – Онуфрий, – с достоинством сказал лыжник. – У него отец русский. А мать у него, да, из племени саам.
– И родились здесь?.. А семья как, тут?.. Это что же, поселок, здесь какой есть?.. – посыпались со всех сторон вопросы.
– Да, он скажет. Тут два поселка: Пышка и Москва. Такие у них русские названия.
– Вот скажи, пожалуйста, – даже всхлипнул от восхищения румяный. – Ну, возьми себе в ум. Воюем, воюем и не знаем, что такие чудеса тут. Москва, а?
– Так, так, – возвысил голос и студент. – Кто-то возражал: старина, мол… Вот!
– Брехня! – буркнуло под плащ-палаткой, – Москва одна на свете!
– Нет, он говорит то, что говорит, – твердо сказал лыжник, и в необычайно ясных светлых глазах его мелькнуло удивление, что ему могут не верить в таких простых вещах. – Это поселки у Луостари. Там был монастырь и жило много русских монахов.
– Э-ка, монахи?.. – весело засмеялся румяный. – Так на то они и монахи. Им нельзя пацанов иметь. А мы про родителя твоего спрашиваем.
– Монастырь существовал так давно, что он даже не может сказать, как это давно. Сами святые отцы не помнили этого, – продолжал рассказывать Онуфрий с неподдельной простотой и серьезностью. Последующие слова его были настолько чисты и непосредственны по интонации, что даже у самых грубоватых солдат не скользнуло на лицах улыбок, и только внимательное молчание показывало, с каким жадным интересом слушается это безыскусное, но сразу захватившее всех повествование. – И поселки вначале были чисто саамские. Но произошло так, что монахи стали встречаться с саамскими женщинами. Стали рождаться русские дети. Мужчины-саамы ничего не могли сказать, потому что святые отцы говорили им, что это небо виновато, что жены саамов слишком часто выходят по ночам смотреть на небо. И никто не сердился. Это продолжалось так долго и было это так давно, что поселки стали русскими. Когда он родился, то там все хорошо понимали по-русски. У него было много братьев и сестер. Он помнит, что отца его звали Паисий. Так говорила ему мать.
– Вот ведь как оно, так! – старательно сказал румяный, нельзя только было определить, что он этим хотел выразить.
– Когда в сороковом году в Петсамо пришли русские военные – говорил лыжник с хорошей ясной улыбкой на скуластом доверчивом лице, – то они разместились в Луостари и близ поселков. Это был девяносто пятый полк. Он, Онуфрий, был тогда очень молодым и быстро сдружился с русскими бойцами. Он не мог больше оставаться дома, когда узнал этих людей. Они взяли его воспитанником части. Вот уже пятый год, как он по-настоящему русский. О нем можно всегда узнать в лыжном батальоне. Сейчас он вернулся домой.
– Ну и что же? Как? – напряженно спросил студент.
– Он не увидел поселков, – грустно сказал боец лыжного батальона, – там совсем не было людей. Никого. Близ Луостари немцы имели большой аэродром. Не немцы там не могли жить. Куда всех людей дели, он не знает. Это даже невозможно узнать.
– А сейчас ты куда ездил? – спросил кто-то.
– Он ездил к озеру Олменчкыхекым яурнеч, – сказал лыжник и тут же рассмеялся. – Не нужно так смотреть на него. Это по-саамски. Означает: озерко потонувшего человека. Там жил один охотник-саам. Но и его теперь нет. Никого нет. Все пусто. Нехорошо, когда не знаешь, что и думать о них. Куда они делись?..
Никто ничего больше не говорил. Молчали. А машина мчалась. Ветер хватал, если ему это удавалось, концы плащей и хлопал ими, как бичами. Прекрасная дорога вилась среди холмов и каменных, внезапных, выпирающих из снега, поставленных на-попа силой сжатия земной коры, гнейсовых пластов, покрытых зеленовато-серебряными лишайниками. Скоро боец лыжного батальона попросил остановить машину. Он сказал, что отсюда ему быстрее доехать до части на лыжах – напрямик. Он благодарил.
Он сошел с машины, стал на лыжи, и все видели, как, помахав рукавичкой, он, – неуклюжий в полушубке, – вдруг точно сорвался с места и понесся птицей вниз, на лету приобретая легкость и ладность движений. Несколько мастерских вихревых поворотов, с тучами снега из-под лыж, и он исчез в белой тундре так скоро, что можно было лишь думать – был ли он вообще…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: