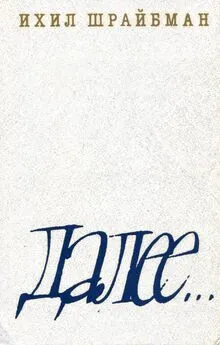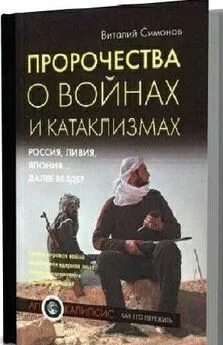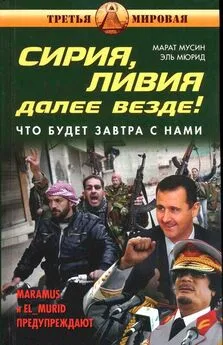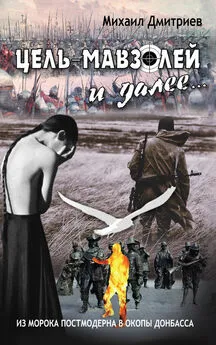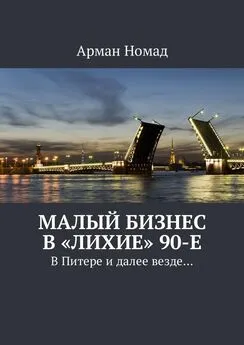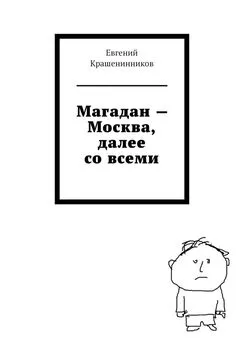Ихил Шрайбман - Далее...
- Название:Далее...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00087-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ихил Шрайбман - Далее... краткое содержание
Новый сборник еврейского писателя И. Шрайбмана интересен и разнообразен по составу. Роман «Далее…» — большое автобиографическое произведение, действие которого происходит в досоветской Бессарабии. Рассказы и очерки — и о прошлом, и о наших современниках. В миниатюрах автор касается темы искусства, литературы, писательского мастерства.
Далее... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На длинных столах лежали пышные шелковые одеяла. Цыганки в разметавшихся платьях «вышлепывали» эти одеяла палками. Цыгане одеяла скатывали, вносили и выносили целые пачки одеял. Цыганки с заколотыми волосами стояли на коленях, их тонкие ловкие пальцы вышивали на одеялах узоры.
Цыганские лица напомнили мне дороги скитаний, дым костров. Взметнувшиеся от кузнечного меха искры в чистом поле. Эхо звенящей кувалды где-нибудь вдали от человеческого селения. Голые. Раздетые и разутые. Свое — одно только небо над головой.
Цыганские пальцы напоминают извечных гадалок, нищенок, выпрашивающих кусок хлеба, обманутые и дешево проданные ласки любви.
От одеял в цыганских руках пахнуло на меня дыханием мягкой постели, оседлостью, запахом согретого под-одеяла. Два совершенно различных слова сблизились, спарились: цыгане и одеяла. Цыганская артель вырабатывает сейчас то, чего они, цыгане, испокон веков не имели и не любили.
Не любили, потому что не имели. Или: не имели, потому что не любили.
Я стоял, помню, в стороне, в уголочке, смотрел, как цыгане делают эти пышные одеяла, и чувствовал, что от двух спарившихся слов исходит какое-то мягкое, ласкающее тепло.
Как раз тогда газеты часто говорили о цыганской оседлости. Исчезают день ото дня кочующие кибитки на дорогах. Остатки бездомности и неприкаянности.
Я смотрел, как палки в цыганских руках взбивают одеяла, делают их мягче и пышнее. Искусные волшебные цыганские пальцы вышивают на одеялах узоры. Я стоял, смотрел и все же не был уверен полностью, что тепло, которое я ощущаю, — нужное.
Хотят ли они этого тепла? Понимают ли его? Греет ли оно их?
Возвращаюсь в Косоуцы. Туда, откуда я начал эту историю.
В начале лета в Сороках и в нескольких селах вокруг Сорок проводилась Неделя молдавской литературы. Встречи с писателями в клубах, литературные концерты, читательские конференции, банкеты для писателей. Разъясняли народу важность литературы и тех, кто творит ее. Меня на этой Неделе не было. Но все равно, и мой авторитет здесь поднялся. Я здесь шагал, как говорят, по уже расстеленной дорожке. Косоуцкий председатель колхоза отложил на полтора часа все свои дела и занимался только мной. По телефону он вызвал к себе двух бригадиров и двух агрономов. Вместе решали, кто поедет со мной в тракторную бригаду, кто на молочную ферму, на птицеферму, кто мне покажет поля и сады, кто особо познакомит меня с людьми.
Вместе выбрали, у кого мне на эти несколько дней остановиться. Председатель пригласил меня потом на свободный вечер к себе домой посидеть, поговорить. И старенький вахтер из колхозного правления подхватил мой чемоданчик и отвел меня туда, где я буду жить.
По пути я несколько раз пытался отнять у него чемоданчик, но ничего у меня не вышло. Мне просто стыдно было перед людьми: я иду налегке, как барин, а он, белый старичок, наверное, далеко за семьдесят, тащит сзади мой чемодан. Я спросил, далеко ли еще идти, но он, видимо, не расслышал, что я спросил, прищелкнул языком и ответил, что он ведет меня к ветеринарному фельдшеру. О, лучший дом в селе, квартира — другой такой нет. На двери фельдшерского дома висел замок. Но старичок сказал, что это ничего, хозяйка уже вот-вот должна подойти. Затем он приподнял свою шапку, сказал «до свидания» и ушел. А я остался на ступеньках крыльца у запертой двери, сидел и ждал. Не так чтобы очень уж долго сидел. Где-то через час, солнце стало уже садиться, светило уже на один лишь верхний уголок дома, отворилась вдруг калитка, и к крыльцу подбежали две маленькие девочки: одна лет четырех-пяти, другая — года два, два с половиной. Я встал и увидел в калитке маму этих девочек — маму лет двадцати трех — двадцати четырех — с корзиной в руках и в красной кофточке, накинутой на плечи. Девочки обхватили оба моих колена и всё хотели, чтобы я их покружил. Мать остановилась и, видно, не знала, мчаться ли ей отдирать девочек от моих колен, ругать их за такое избыточное гостеприимство или, наоборот, так и стоять у калитки и смеяться, глядя, как смеюсь, стоя со спутанными коленями, я. Освободившись потихоньку от детских пут, я шагнул к их матери и протянул ей руку. Лишь сейчас, вблизи, разглядел я толком ее глаза. На мгновение дольше, чем нужно, я держал ее руку в своей и уже еле слышал, как она представилась, — сказала: Надя. Лицо ее покраснело. Может, из-за недавнего, чуть грубоватого, детского гостеприимства, возможно, из-за знакомства нашего, а быть может, просто — отсвечивала так на ее лицо красная кофточка, накинутая на плечи.
— Вы, наверно, давно уже ждете?… — теперь она, Надя, прижимала к коленям обеих девочек.
— Нет. Только что… То есть да, давно!.. — возле Нади уже с того первого взгляда час времени стал значить для меня и только что, и очень-очень давно…
Грехи мои вспоминаю я сегодня. Еще и сегодня я называю это грехом и сегодня, здесь, признаюсь в нем, хотя через столько лет такие грехи можно считать уже прощенными и хотя единственному человеку, против которого я грешил, признался я еще тогда, сразу по приезде домой, и человек этот меня понял. (Правда, немало стоило ей крови это умение всегда понимать меня.) И этот грех прощен мне был еще тогда.
Конечно, было бы, я думаю, проще рассказывать о нескольких днях в доме ветеринарного фельдшера в третьем лице. Рассказывать такое в третьем лице конечно же легче, чем о себе самом. Свобода была бы более полной. Подробности — более откровенными, сочными. Я заметил, однако, у читателей странное умение ставить все с ног на голову. Рассказываешь иногда о том, что с тобой происходило, в точности так, как происходило, ничего не добавляешь и ничем не приукрашиваешь, не изменяешь даже ни имен, ни места и ни времени, рассказываешь все, разумеется, «от первого лица», не прячась и не выгораживаясь, просто и откровенно, как исповедь, — читатель знает, однако, что он «читает» и не дает себя «обмануть». «Э, — говорит он, — не чувствуется разве, что оно нарочно так сделано, чтобы всему верили? Не видно разве, что все это сказка? Красивая сказка, хорошая сказка. Но сказка».
И наоборот.
Рассказываешь иногда о происшествии, которого никогда с тобой не происходило, понесешься, как говорили когда-то, на крыльях фантазии. Имена с потолка — выдуманные, время и место — как тебе захотелось и как тебе понадобилось. Рассказываешь, разумеется, в третьем лице. Тебя там нет. А если ты там и есть, ты спрятан за семью пологами, загорожен семью личинами. Читатель знает, однако, что он «читает», и не дает себя «обмануть». «Э, — говорит он, — не чувствуется разве, что оно нарочно так сделано, чтобы всему верили? Не видно разве ясно, что это он, автор? Якобы вымысел. Выдумка. Но это биография. Автора собственная биография».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: