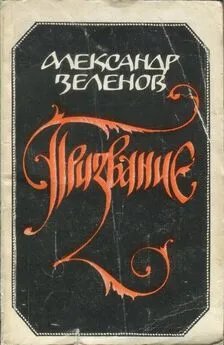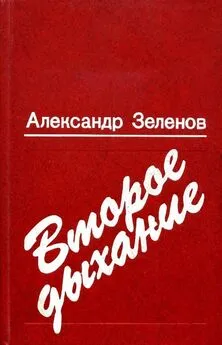Александр Зеленов - Призвание
- Название:Призвание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00121-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Зеленов - Призвание краткое содержание
В книге рассказывается о борьбе, развернувшейся вокруг этого нового искусства во второй половине 30-х годов, в период культа личности Сталина.
Многое автор дает в восприятии молодых ребят, поступивших учиться в художественное училище.
Призвание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Весь местком Большого театра его, Долякова, за эти вещи благодарил. А иллюстрации к знаменитому памятнику древнерусской словесности обессмертили его имя.
Да, были заказы, денежные, большие. Когда работалось, верил, что деньги эти предбудущие в корне изменят, волшебно переиначат всю его жизнь. Но вот получает он их, подступит что-то к нему, и он вдруг бросает все, места себе не находит, бражничает с дружками, неделями не берет в руки кисть. А в доме всего два ухвата да несколько чугунов. Если что и прибавлялось в его семействе, так это детишки, было их у него целых семь ртов. А сам знаменитый мастер опять щеголяет в мятом своем пиджачишке, терзаясь укорами совести и похмельем, стреляя махорочки на завертку у других мастеров.
Порой сокрушался: «Сколько я этих пахарей переписал! Пашут, пашут, а ты оставайся без хлеба…»
И добавлял, помолчав: «Только знаете что, я не жалуюсь, нет. Я думаю так, что чем больше голоду, тем больше таланту».
Он прекрасно знал историю древнерусского искусства, мог горячо, часами рассказывать о письме новгородском, строгановском, московском, где работали мастера царских кормов, но всю жизнь свою как несчастье, как наказание какое ощущал он свою малограмотность.
«Грамотей я плохой, — говаривал он. — А то какие бы я давал творческие вещи! Душа иной раз кипит, хожу из угла в угол, головы моей не хватает…»
И тем не менее он, как волшебник, как фокусник, выпускал на простор толпы всадников и коней, разных птиц и зверей, солнце, луну и звезды, сверкающих драгоценными красками, золотом, серебром, всех изумлявших тончайшим своим искусством. Младшекурсники верили: мастеру ведом некий секрет, который и помогает ему творить небывалое. На перемене они иногда окружали его, не стеснявшегося порою стрельнуть у них папироску, и он, маленький, угловатый, неловкий, попыхивая дешевенькой папироской и пальцами теребя растрепанные усы, принимался рассказывать, как он пишет, откуда берет сюжеты и дивные краски свои.
Вроде бы так все понятно — и все-таки не давался в руки заветный тот ключик, которым только и можно было открыть волшебный ящик, где хранился секрет искусства этого беспокойного, одержимого мастера, постоянно как бы сжигаемого неким внутренним жаром.
И вот начал сильно сдавать Доляков за последнее время, что-то творилось с ним непонятное.
Говорили, что вещи его не идут, их бракуют одну за другой. Что мастеру запретили работать дома и обязали ходить в мастерские, вместе с другими-прочими. Он же приходит с утра в мастерскую — работать не может. Оглянется разик-другой — и незаметно эдак, бочком, по стенке, — на выход, вроде как в туалет. А сам добежит до казенки, маленькую пропустит, прямо из горлышка засосет за углом и возвратится тихохонько снова на место. Глазки блестят, веселый. И рука не дрожит, держит кисть…
2
Вел Доляков в училище четверокурсников. Сашка впервые увидел его еще в начале учебного года, когда первый курс водили по мастерским, знакомили с лаковым производством.
В мастерских бросались в глаза шкафы вдоль стен, просторные, остекленные, где за толстым витринным стеклом сверкали радугой красок и золотом лаковые изделия. Здесь были собраны лучшие, удостоенные высоких наград на международных выставках, в том числе на парижской, где местной артели был присужден Гран-при. На стенах же, в рамочках за стеклом, висели дипломы, почетные грамоты. Особенно выделялся один, на веленевой, лучших сортов бумаге, с высоким искусством исполненный лучшим гравером Франции и снабженный подписью министра промышленности и торговли этой страны. Крупно, красиво на нем было выведено от руки имя его обладателя: «Monsieur Doliakoff». А рядом сидел и сам «Monsieur Doliakoff» в измятом своем пиджачке, в смазных сапогах, с потухшей цигаркой в левой руке и с беличьей кисточкой — в правой. Если чем он и выделялся среди других мастеров, так это своей заурядной внешностью.
Неужели это и есть тот самый, которого знала Европа, Америка, Азия, которого так ценил и так восхищался им Горький? Он едва ли бы мог и запомниться, если бы не глаза, полыхавшие черным огнем, беспокойные, темные. Повернул к первокурсникам стриженную под машинку голову, раздвинул в беззубой улыбке встопорщенные усы, обнажая под верхней губой два уцелевших клыка, придававших сходство ему со старым и добрым волком из сказки…
Сашку тревожило это имя, он каким-то глубинным чутьем ощущал, что несет этот мастер в себе тот огромный заряд, что принято именовать самородным, стихийным талантом.
Ванька был третьим по счету в большой семье Доляковых, кроме него еще было семеро — старшая, девка, потом шли мальчишки. Все худые, горластые, черные, как грачата, вечно голодные и всегда возбужденные, они отличались резко от местной детни, почти сплошь белобрысой, по-володимирски окающей.
Отец оставался в Москве на Рогожской и какое-то время еще высылал им оттуда по красненькой в месяц. Потом спился с круга и умер. (Говорили, что был он отравлен хозяином.) Остались после него на руках Парасковьи свет Вонифатьевны, матери, восемь голодных ртов. Каждого накорми, и одень, и обуй. Впряглась она в этот семейный воз и тащила его до самой своей кончины, — кормила, поила, обихаживала своих сорванцов, дом-развалюху блюла как могла, нанималась и мыть полы, и стирать у хозяев, а по летам — сена ворошить, жать, косить, молотить, работала и за мужика, и за бабу. Плетется, бывало, с работы домой, еле ноги тащит, а соседки еще по дороге встречают: «Твои-то опять в чужой огородец залезли!», «Твой-то опять у меня вчерась из рогатки окошко разбил!» Придет, нашвыряет виновникам подзатыльников или отлупит ремнем, да разве в одни-то глаза углядишь за эдакой-то оравой! Но хоть и билась она ровно рыба об лед, а из всех восьмерых по миру ни одного не пустила. Время приспеет — в школу их отдает. Побегают зиму-другую, чтение, письмо осилят — и в иконописную мастерскую: «Батюшко, Миколай Михайлыч, возьми, не оставь уж мово-то, Христом-богом прошу!..» Старшего отвела — настал и Ванькин черед, как только стукнуло десять.
Ваньку она отдала к Сарафанову еще в старую мастерскую. В обучение он попал к Финогеичу, старому и плешивому мастеру, что постоянно носил очки, перевязанные веревочкой, на самой пипке сизого мокрого носа. Финогеич не пил, не курил, соблюдал все посты аккуратно. С учениками был строг, порой сам трепал за вихры, раздавал подзатыльники, чаще же ябедничал приказчику Михаилу Васильичу, который их драл не в пример сильнее.
Человеком мастер был набожным, главу сорок третью Стоглава помнил и соблюдал отлично. Подобает иконописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце; особенно же хранить чистоту душевную и телесную со всякими опасениями…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: