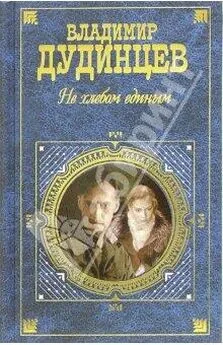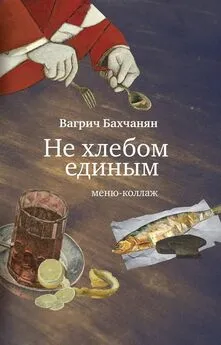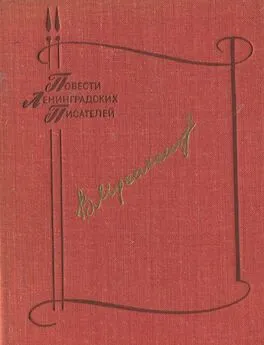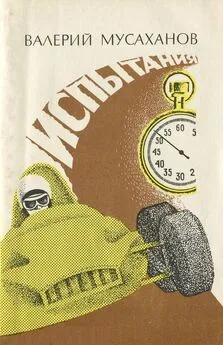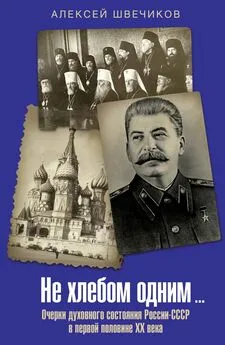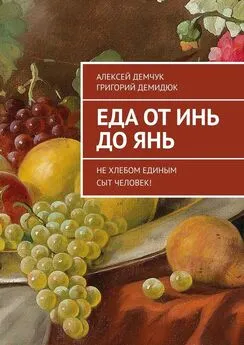Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний…
- Название:И хлебом испытаний…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00264-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний… краткое содержание
И хлебом испытаний… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Перекресток приближался, и мне некогда было рассматривать его покупку.
— Погоди, — сказал я и свернул к Фонтанке, переехал мост, миновал площадь с памятником Ломоносову, повернул к Хореографическому училищу и остановился. Здесь было мало прохожих, дремали на сиденьях шоферы учрежденческих машин, и асфальт был уже сухим и чистым.
— Ну что ты там выхватил такого? — Я, не глядя, протянул руку, и Крах вложил в нее тяжелый шуршащий сверточек.
Я медленно огляделся — нет ли поблизости любопытных, — тротуары были почти пусты, желтые стены зданий выглядели так, будто их пропитали солнцем, и задний фасад театра, замыкавший эту короткую улицу, тоже был желтым и теплым и в обманчивой перспективе казался далеким.
Я чувствовал весомость сверточка в ладони, угадывал под шуршащей ломкой бумагой какие-то выступы и впадины, но не спешил разворачивать. Мне было не очень интересно. Несколько лет назад я не медлил бы ни минуты, а теперь вот равнодушно глядел в обманную перспективу желтой улицы, и Крах прилично сидел рядом и деликатно сопел.
Я столько уже держал в руках этих сверточков, что не испытывал ничего. Я знал, что любой сверточек принесет твердый доход, но это тоже не волновало меня. Я никогда не любил деньги, они были нужны, потому что могли принимать форму желаний. А все эти сверточки содержали малопривлекательные побрякушки. Приказчики нэповских времен самоутверждались, поднося их женам Побрякушки были непрочны и сомнительны, как те времена. Иногда это были монеты с хамоватым профилем всероссийского самодержца. Я презирал все эти вещицы за их потаенность и наглую ценность, как старьевщик презирает хлам и тряпье, которые дают ему средства на жизнь. Я любил другие вещи, откровенные в своем аристократизме и красоте, — фарфор и бронзу, а больше всего — книги. И поэтому не спешил я развернуть сверточек, что принес Крах. Развернув его, я с этой прекрасной и строгой улицы, которая была сродни ампирной бронзе и севрскому бисквиту, сразу переносился в мир вонючих и сумрачных помоек, из свободного бродяги и веселого бездельника превращался в замызганного, прибитого жизнью старьевщика, перебирающего истлевшие подштанники, старые калоши и ржавые жестянки, шепчущего обсыпанными гунявыми губами грошовые расчеты…
Я помнил этих пугающих своей приниженностью людей с пустотой прозрачных от алчности глаз. Они приходили в нашу квартиру до войны с черной лестницы, давали робкий короткий звонок и, потупясь, пели гнусавыми голосами: «Тряпки, бутылки, кости, старье ра-аз-но-ое». Мать или соседка через порог говорили: «Нет, князь, ничего нет», — протягивали белый блестящий двугривенный и торопливо с виноватым лицом запирали дверь на черную лестницу. А я уже знал, что князь — это «вещий Олег», и дивился тому, что этих пугающе непонятных людей тоже величают князьями. Но ни мать, ни соседка не могли разъяснить мне этого. Они говорили, что так звали этих людей всегда. И я подумал, что князья бывают разные: одни обрекают мечам и пожарам, другие роются в вонючем тряпье. Жизнь показала, что детская мысль была не столь уж ошибочной. Княжеский блеск оплачивался тайными унижениями, разгребанием помоек, — незапятнанность наряда и рук по вечерам объяснялась тем, что руки моют с мылом, а рабочее платье меняют на вечерний костюм.
Я был князем по вечерам, я был князем днем. И я по-княжески небрежно сорвал хрустящую бумажку с покупки Краха и почти сразу услышал свой голос, спокойный и даже насмешливый:
— Ну и за сколько тебе втолкали эту туфту? — Я произнес это и почувствовал, что задыхаюсь от страха и уже не могу вымолвить ни слова больше. Резко воткнул скорость и дернул машину так, что она прыгнула блохой. Ничего не замечая на улице, я миновал театр и благополучно выбрался на Невский. Тут нужно было следить за дорогой, и это помогало справиться с собой. Но теперь я уже знал, что со мною случится припадок.
Голос Краха скрипуче донесся откуда-то издалека:
— Оправа же там рыжая, Петрович. — Он умолк, потом робко спросил: — Две-то сотни стоит?
Я не повернул головы, даже не покосился в его сторону, собрал себя в ком и, вцепившись в руль покрепче, тихо сказал:
— Получишь в два раза больше, но я прекращаю дела, лавочка закрыта… на время.
— Четыре бумаги! Ладно, Петрович. Ты только свистни, когда нужно будет.
Я не видел лица Краха, но по тону чувствовал, что он доволен. На ходу я вынул бумажник и выкинул восемь зеленых. А внутри все дрожало от страха, мелкого, подленького страха, что все это — сон и сейчас я проснусь от скрипучего смеха Кольки Краха в дальней колонии общего режима.
Возле Пушкинской я тормознул.
— Ну, валяй. Нужен будешь, найду.
Пока Крах вылезал из машины и бережно захлопывал дверцу, прошла, мне казалось, вечность. Но я не сразу рванул машину с места, а еще посмотрел ему вслед, как он подпрыгивающей походочкой уходит в своем модном коротком пальто и, наверное, улыбается удачной сделке. Если бы он знал, что лавочка закрылась навсегда, что я уволил его совсем, потому что он сделал свое дело; так увольняют сезонников — «в связи с окончанием работ». Но Колька Крах не знал этого, не знал, что его увольнение свершилось в тот миг, когда он положил мне в ладонь эту штуковину, не знал он и того, что это последний крест, которым фортуна пометила его судьбу. Он был рожден получить свои четыре сотни и уйти с улыбкой счастья.
Я смотрел ему в спину, и мне было немного грустно, как при всяком прощании: ведь частично Крах был моим созданием, и он выполнил свое предназначение, сделал меня богатым, и я заплатил ему за это четыре сотни.
Я плавно тронулся, свернул на Восстания и медленно поехал домой.
Было два часа дня.
2
Знакомые старые вывески, крошечный сквер на углу, в котором, казалось, все эти сорок лет отдыхают по пути из магазина домой одни и те же старушки с кошелками; ленные фасады старых домов — все были молчаливыми свидетелями моей юности.
Я не очень любил ходить здесь пешком; на этих относительно тихих, прилегающих к центру улицах, как спившийся бывший школьный товарищ, с наглым и униженным взглядом ожидающий вашего узнавания и вашей подачки, болталось прошлое. Оно настороженно выглядывало из мглистых подворотен, ежилось в худой одежонке под навесами подъездов, слонялось на пятачке возле булочной, магазина и пивной.
Я не очень любил ходить здесь пешком, потому что не мог избавиться от ощущения слежки. Оно возникало почти всегда, — моя история преследовала меня. Я иногда размышлял об этом, пока не придумал хоть какое-то объяснение.
У всякой человеческой судьбы есть своя тема. В житейском хаосе, в притворной случайности событий время ведет вашу тему на разные голоса, разрабатывает и развивает ее, в окружении подголосков скрывая переходы, и, только когда в вашей жизни наступит финал, вы, быть может, услышите тему своей судьбы, утвержденную в главной тональности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: