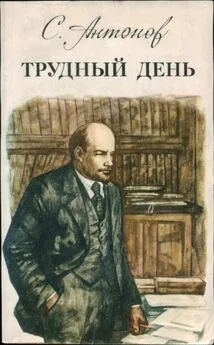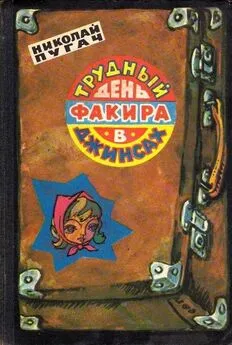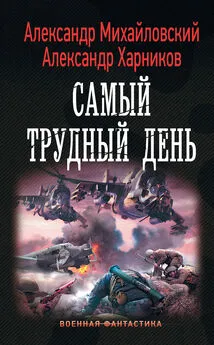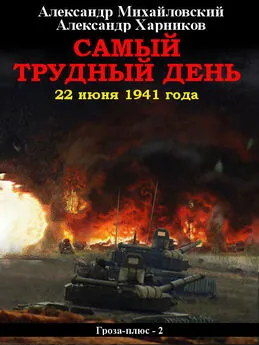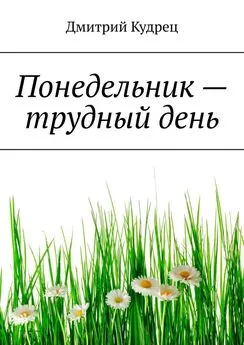Сергей Антонов - Трудный день
- Название:Трудный день
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Антонов - Трудный день краткое содержание
Трудный день - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Большинство прибежавших в былые времена никогда не поднималось на высокое резное крыльцо, не переступало порога этого дома, где, по рассказам, вдоль стен стояла дубовая мебель, а на самих стенах висели темные портреты предков Фомина. Знали, что любили угощаться там куропатками и свежими лещами, жареными грибами и всевозможной лесной ягодой, которую, так же как и куропаток, лещей и грибы, несли хозяйке желавшие заработать на ситец и обувь. Говорят, водку там не пили, а только коньяки и вина. Стоял там рояль, и летом, когда были открыты окна, можно было слышать его, проезжая по дороге мимо усадьбы.
Сейчас этот дом горел, и с ним навсегда, казалось, сгорало прошлое.
Никто не пытался тушить пожар.
Подожженный изнутри, дом горел долго и с достоинством. Сколько дерева уже пожрало жадное, порхавшее с бревна на бревно пламя, а ни потолки, ни стропила не рушились. В реве пожара все время слышался сухой, отрывистый треск.
— Патроны! — злобно сказал крестьянин, наспех напяливший на себя рваный полушубок.
— Ага! — подхватил рябой в солдатской шинели. — Припасли где-нибудь на чердаке против нашего брата! А вот использовать не удалось. Гады!
— Не достанет сюда? — испуганно осведомилась молодка рядом с рябым.
— Кто знает… Саданет какой-нибудь ящичек пуда в два, а потом разбирайся…
— Бабы, отойдите! — закричала молодка. — Патроны рвутся!
Федор Васильевич Покровский, безотрывно смотревший на пламя, которое завораживало взгляд, нехотя повернул голову:
— Никаких там патронов нет. Дом из дубовых бревен. Бревна сухие — вот и трещат.
Рябой недобро покосился на Федора Васильевича, в летнем пальто и очках, спросил:
— А ты откуда знаешь?
— Кто-нибудь же должен знать.
Рябой что-то пробурчал и спросил соседа:
— Это кто ж такой?
Ответил сам Федор Васильевич:
— Если вам угодно, я специалист по энергетике, — и поклонился с подчеркнутой учтивостью. — Из Москвы.
— Это все за нашим хлебом?
— За вашим, за вашим… — подтвердил Федор Васильевич, с печалью глядя на охваченный огнем дом.
Он все еще стоял. Ветра не было, и гудевшее пламя по-прежнему взметывалось столбом вверх.
Федор Васильевич поклонился не желавшему сдаваться дому, как живому существу, и пошел. Ослепленный огнем, он первые минуты ничего не видел, неуверенно шагал, помня только, что в этой стороне ворота, а за ними дорога.
Он знал, что усадьбы горели в пятом году, в семнадцатом, восемнадцатом; с ними горели художественные и культурные ценности, без которых России уже не бывать прежней Россией.
Оказывается, усадьбы горят и в двадцатом, реже будут гореть и дальше, и, наверное, до тех пор, пока на земле не останется ничего от старого.
На мосту Федор Васильевич остановился и посмотрел назад. Небо над парком было багрово-красным, искры летели высоко вверх и гасли.
Но дом стоял.
«Не знал, — с горечью подумал Федор Васильевич. — Искры от домов дубовых летят выше, чем от домов сосновых… Не знал…» Он хотел уже идти дальше, как увидел крестьянина в рваном полушубке. Подождал и зашагал рядом. Сначала молчал, потом все-таки спросил:
— Зачем же поджигали? Школу можно было открыть!
— Ясное дело, можно было… И какую! А вот не выходит…
— Почему не выходит?
Крестьянин в полушубке развел руками: это, мол, свыше простого желания…
— А кто поджег?
Крестьянин снисходительно улыбнулся:
— Спрашиваете… Охотников много…
Больше Федору Васильевичу не хотелось говорить. К счастью, крестьянин в полушубке молчал, вздыхая о чем-то.
Когда Покровский вернулся на сеновал, где устроился переночевать у некоего Битюкова, то ни десяти фунтов муки, ни двух оставшихся рубашек не нашел… Эти рубашки он хотел пустить утром в обмен, ради чего и остался ночевать. Хозяин, хотя Федор Васильевич и ничего не требовал, клялся, что знать ничего не знает.
Рано утром Федор Васильевич добрался до станции железной дороги.
Люди с мешками за спинами стаскивали друг друга с подножек вагонов и с крыш. С буферов падали на шпалы… Ругань и страшеннейший по своему цинизму мат заполнил собою все — от заплеванного и усыпанного шелухою семечек перрона до неба, которое вот-вот должно было содрогнуться…
Всем своим существом, ничем не защищенным от этого хаоса и власти грубой силы, Федор Васильевич остро чувствовал: время не его… Когда еще собирался в дорогу, знал, что берется не за свое дело и вряд ли преуспеет в нем, но все же нужно было попытаться помочь больной жене. Теперь, после всего увиденного, становилось ясно, что наступили времена, при которых такие, как он, жить не могут.
Чтобы стать здесь равноправным, надо было выключить в сознании и душе все, кроме одного: «Выжить! Любой ценой!» Федор Васильевич понимал это и потому не мог поступать, как другие.
Не зная, что делать, Федор Васильевич потолкался по перрону, все время чувствуя, как нелепо он выглядит в этом своем неистребимом стремлении сохранить человеческое достоинство. Он уже хотел где-нибудь присесть и отдохнуть, как толпа случайно втолкнула его в вагон. Но это оказался «настоящий» пассажирский поезд, и Федора Васильевича, как не имеющего билета, недалеко от Москвы высадили, обозвав буржуйской мордой.
Федор Васильевич решил добираться до Москвы пешком и на попутных подводах — не может быть, чтобы в русском народе разом иссякла доброта.
В совершенно незнакомых селах и деревнях ему почтительно кланялись, большей частью женщины и дети. Федор Васильевич отвечал и с болью думал, что со временем и это будет уничтожено — великолепный обычай привстать человека.
Жаль! Бесконечно жаль…
Но революция устраивалась не для него и не для таких, как он, Покровский, а вот народу, из которого он вышел и о чем никогда не забывал, революция, видимо, нужна. Земелька-то теперь у мужиков! Своя! Для них открылись двери школ и даже университетов… Что-то было в этой революции!..
Доброта людская, где только могла, помогала ему: делилась хлебом, подавала кружку свежей воды. И чем больше она давала о себе знать, тем острее становилась боль Федора Васильевича: «И это будет разрушено… И это уничтожат…»
Никогда бы Феде Покровскому не выбиться в люди, если бы не эта людская доброта, один из устоев жизни народной. Сын потомственных крестьян, он окончил в своем селе церковно-приходскую школу, проходив в нее три зимы — в осени и весны помогал родителям по хозяйству. Он навсегда остался бы в селе, если бы не отец Александр, батюшка местной церкви. Заметив в смышленом мальчике незаурядные способности, отец Александр уговорил родителей Феди послать его в городскую школу, а потом сам хлопотал о его приеме в гимназию, ездил в уезд, писал…
Иногда Федора Васильевича, хотя он и не просил, подвозили случайные попутчики на телегах. Расставаясь, давали советы, желали всего хорошего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: