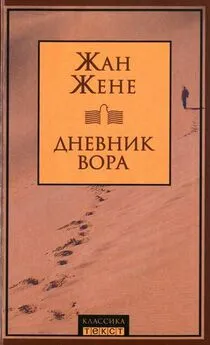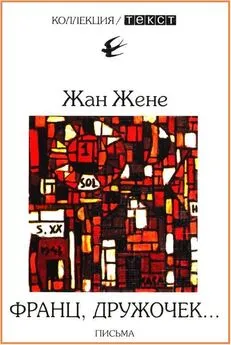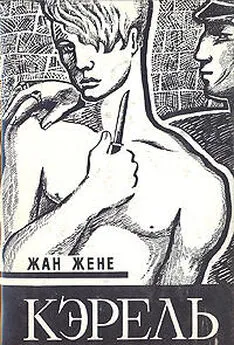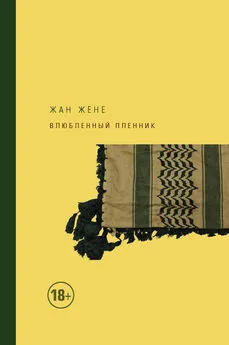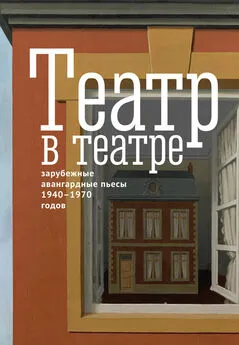Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]
- Название:Влюбленный пленник [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-137037-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Жене - Влюбленный пленник [litres] краткое содержание
Начиная с 1970 года он провел два года в Иордании, в лагерях палестинских беженцев. Его тянуло к этим неприкаянным людям, и это влечение оказалось для него столь же сложным, сколь и долговечным. «Влюбленный пленник», написанный десятью годами позже, когда многие из людей, которых знал Жене, были убиты, а сам он умирал, представляет собой яркое и сильное описание того исторического периода и людей.
Самая откровенно политическая книга Жене стала и его самой личной – это последний шаг его нераскаянного кощунственного паломничества, полного прозрений, обмана и противоречий, его бесконечного поиска ответов на извечные вопросы о роли власти и о полном соблазнов и ошибок пути к самому себе. Последний шедевр Жене – это лирическое и философское путешествие по залитым кровью переулкам современного мира, где царят угнетение, террор и похоть.
Влюбленный пленник [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Почти в унисон мы произнесли:
Я : На следующий день я отправился в Дамаск.
Она : Когда Хамза проводил француза и вернулся, то сказал, что тот уехал в Дамаск.
Она решила обратиться прямо ко мне по-арабски, Нидаль негромко переводила:
– Видишь, какие мы. Мы были в Испании, в Голландии, во Франции, в Лондоне (Лейла Халеб), в Швеции, в Норвегии, в Таиланде, в Германии, в Австрии.
Слушая эти слова, Spagnia, Landia, Francia, Guilterra, Teland, Magnia, я как будто видел популярный символ каждой из этих стран, названных ею на арабском языке. А она сама, услышав эти названия по радио, как представляла себе территории, где действовали фидаины и где, как она думала, закладывал взрывчатку ее сын?
Бои быков, каналы Амстердама, Эйфелева башня, Темза, снег ( teij по-арабски, telj , повторяла она восхищенно), полярные льды, золотой Будда, Франко, Гитлер, вальсы… Из своего дома она покоряла мир, управляя перемещениями Хамзы, и подобно Наполеону на его острове, рассказывала своему конфиденту Лас Казу о мире завоеванном и потерянном. Она продолжала:
– В Италии, в Марокко, в Португалии, а сейчас мы где? В Дюссельдорфе. Из Токио приехали японцы, чтобы в Тель-Авиве (она на арабский манер произнесла Tel-Habib) убивать израильтян.
– Хамза купил тебе цветной телевизор?
– Он маленький, а у меня глаза больные. Я его слушаю, а смотрю редко. Только вчера я посмотрела, хотя в глазах туман, я хотела увидеть, как Хусейн на коленях молится за старика.
– Какого старика?
– За своего деда, Абдаллу, его убили, когда он выходил из мечети в Иерусалиме. Ты меня слушаешь, француз? Хотя он умер давно, все молятся, чтобы Бог смилостивился и спас его.
Выйдя из дома, я нисколько не сомневался, что знал поэзию с семидесятых годов, с тех лет, проведенных среди фидаинов: абсолютное доверие и благоразумная осмотрительность. Я испугался, почувствовав на лице теплый уличный воздух. Всё, что было в этом доме, мне, похоже, приснилось. Мне было страшно за мать, за двух ее внуков, за Хамзу II, за самого Хамзу. Наше прибытие в лагерь, все наши разъезды не могли остаться незамеченными.
– Представьте себе в этом забытом богом месте появляется человека с Севера, такой старый, рассказывает какую-то историю, и как старуха была счастлива, что не попала в ловушку, когда иностранец рассказал ей, что провел здесь ночь четырнадцать лет назад, а рядом красивая молодая светловолосая женщина, которая говорит на прекрасном арабском языке с ливанским акцентом, – сказала мне Нидаль.
Боялся ли я? Я, и в самом деле, чувствовал легкий холодок страха. От недоверия и подозрительности, о которых мне говорили в Бейруте, в Рабате, в Аммане, не осталось и следа. Может быть, какой-то образ, матрица, но где она отпечаталась во мне? Из-под растрескавшихся плит, гранитных или бетонных, пробивался мох. Какие-то споры растений, корни инжира приподнимали плиты, медленно или резко, и раскалывали их; этот образ стоял передо мной не то, чтобы очень четко, он был размытым и нерезким и возникал как будто в том же тумане, в каком когда-то появлялась передо мной колонка.
В сопровождении внуков и Хамзы II, который на этот раз, смеясь, признался – и не без хвастовства – что тоже когда-то был фидаином, мы прошли по лагерю, почти безлюдному, потому что было как раз время обеда. Какие-то молодые палестинцы поздоровались с Хамзой II, и тот ответил беспечной улыбкой, как настоящий Хамза тогда, четырнадцать лет назад, или наоборот, говоря теперь об улыбке Хамзы I, я вспоминаю II.
Когда мы подошли к автомобилю Нидаль, Хамза II демонстративно не заметил моей протянутой руки и, меня за плечи, дважды поцеловал. Внуки, улыбнувшись, проделали то же самое, возможно, не так сердечно. Нидаль и ее подруге они пожали руку.
Откуда у матери такая холодность и подозрительность? Если ее сухой прием был подобен высохшему ручью, в каком высохшем источнике брал он свое начало? Метафора ничего не стоила. Никакой образ не передаст это яснее и полнее, чем просто слова «сухой» и «сухость». Они, как нельзя лучше, передают это отсутствие какого бы то ни было течения, водного потока, льющейся воды, реки, что берет начало в полноводном источнике и струится, орошая землю; а высохшая река, как и мать, неподвижна, безжизненна, суха. Взгляд был потухшим, промелькни в них какой-то свет, это означало бы некое движение души, и глаза бы засияли. Если бы речь шла о светильнике, любой ребенок сказал бы, что нет тока, а слова «сухой» и «сухость» означали засушливую, бесплодную почву. Выбранные мною пронзительные вокабулы, их узус, их истертость, возможно, и передали то чувство беспокойства, в котором я не решался признаться: как протекли эти четырнадцать лет, сделавшие из той красивой, цельной женщины вот эту – скрытную и подозрительную. Скрытную, но… она все-таки дала мне листок с номером телефона Хамзы, и это было следствием её усталостей. Именно так, во множественном числе. Когда-то умевшая постоять за себя, так гордившаяся сыном, она иссякла, как высохший ручей.
Шиповник – это цветок романтиков и, возможно, их символ, так что ничего удивительного, что венчику цветка я предпочитаю плод; розовое соцветие дает плод ярко-красного цвета, теплый, который в народе иногда называется «почесушник», мясистый, с многочисленными плодиками-орешками, покрытыми легким пушком: стоит съесть две-три штуки, как начинает чесаться в заднице. Когда по осени шиповник начинает опадать, обнажается сам плод, маленький, но очень яркий, красный, как член кобеля, гоняющегося за течной сукой. Один за другим отрываются и падают на землю пять лепестков, по одному в день, и вот остается только колючий куст. Так передо мной медленно обнажалась Церковь, признаваясь, что стоячая вода в купелях – не из Иордана, а из крана, что Иисус родился не в I году, что безо всякого чуда облатку можно было грызть грязными зубами, ну и так далее. Так же и мать. Ее сын не умер. Он был единственным. У него у самого был сын. То, что я счел ошибкой памяти, было хитростью. У Хамзы было два старших брата, не зная этого, я не знал, как она к ним относилась, возможно, с такой же нежностью, как и к Хамзе. Откуда у Хамзы это безбожие?
«Хамза тоже совсем не верил в Бога», – сказал Хамза II.
Может, это у него от братьев? От матери осталось не слишком много: чешуйки перхоти в волосах с остатками хны, костлявое тело, бледное, словно выцветшее лицо, серая кофта, колючий кустарник шиповника без цветов, Церковь, с которой слетела позолота.
Это была неутихающая золотая лихорадка. Впервые я понял, что это такое, в церкви одной маленькой французской деревушки. Подсвечники были из золота, старинного золота, на котором проступали темные пятна ржавчины. Предметы священные, потому что культовые и должны были быть сделаны из этого благородного металла, который, к тому же, так подходил для метафоры. Но деревенский каменщик посмеялся надо мной, ведь подсвечники были всего лишь позолоченные, в тот год я узнал, что такое золотой фиксинг, накладное золото, золотой лист, вермель, самородок, но тут уже приходской священник посмеялся надо мной, объяснив, что подсвечники просто жестяные, покрытые тонким слоем красной меди. Это схождение золота в ад, как признание скудости Бога, породило во мне сначала осторожность, затем скепсис. Ренессанс, Людовик XIII, Людовик XIV, Регентство, Людовик XVI, Империя, Луи-Филипп, Вторая Империя, вся эта мебель, сделанная в Карачи, была деревянной, серебряной, перламутровой, но вся целиком, снизу доверху покрыта позолотой. Это была квартира представителя ООН в Бейруте. Он привез ее из своей страны, из пакистанского дворца, вся она была позолоченной, и всё вместе напоминало знаменитый Золотой храм сикхов. Он жил на двенадцатом этаже, я на восьмом. Он пригласил меня выпить кофе, и я был удивлен как этим золотом на уродливой мебели, так и самим приглашением. Я вернулся из Карачи, где в уличных заторах сновали автобусы и трехколесные грузовые мотороллеры без верха, а мебель, примотанная для надежности стальной проволокой, переливалась позолотой и серебром, вдруг вспыхивал то зеленый, то красный, то желтый, цвета набегали, карабкались один на другой, и всё было покрыто золотом. А здесь, в Бейруте, на двенадцатом этаже, мебель, которой посчастливилось показать мне себя, смотрела на море.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/1144114/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres.webp)