Николай Шпыркович - Лепила[СИ]
- Название:Лепила[СИ]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Шпыркович - Лепила[СИ] краткое содержание
Эта книга — о работе врача анестезиолога-реаниматолога, реальной работе. Ну и немного детектива, сдобренного юмором для вкуса.
Лепила[СИ] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Дмитрий Олегович, вы никогда не задумывались над тем, что подавляющее большинство всех известных науке болезней открыли и описали люди, у которых не было ни компьютера, ни рентгена, ни прочего диагностического оборудования. Так, стетоскоп, руки, глаза. И — уши. Уши — это очень важный диагностический инструмент. 80 % информации о больном дает правильно собранный анамнез. Еще 10 — 15 — простейшие методы исследования — осмотр, пальпация, перкуссия, простейшие, доступные любой лаборатории анализы, а уж остальное — все эти технические премудрости, которые, в общем–то, подтверждают уже установленный диагноз, скажем, уточняют размеры камня в почке или опухоли в мозгу, достоверно устанавливают место локализации. К сожалению, такими диагностическими инструментами, как уши, язык и головной мозг масса выпускников медвузов совершенно не умеют работать. Пальцем о палец не ударят — в самом прямом, что ни на есть, смысле — перкуссией не владеют. У меня у самого племянник учится в медицинском, я его спросил из любопытства — как вас там перкутировать учат — он только рукой отмахнулся: ерунда, мол, все это, ветхозаветное старье, сейчас рентген есть. А, кстати, Ветхий Завет пока еще никто из богослужения не исключал, разве что совершеннейшие радикалы — церковники. Между прочим, иногда при пневмониях перкуссия легочного поля более информативна, чем рентгенография, ну это так, к слову. Знаете, беда не в том, что у нас в районе нет, к примеру, компьютерного томографа, — беда в том, что нынешних студентов учат те, у кого он есть, а работать они приезжают сюда, где его нет.
Для их учителей многие вещи настолько очевидны, привычны (уже!), что они забывают дать базовые истины, в том числе и то, как правильно задавать вопросы. А ведь, если не будешь правильно спрашивать — не получишь правильных ответов. Упование лишь на то, что «заграница…», то бишь «аппаратура», «нам поможет!» — по моему мнению, глубоко ошибочно. Личное общение с пациентом отходит на второй план, а ведь не зря крупные бизнесмены ведут серьезные переговоры лицом к лицу, не доверяя это дело ни телефону, ни компьютерам, ни факсам. Нынешнее же общение с пациентом у некоторых врачей напоминает сцену из сказки — больной на что–то жалуется, а доктор говорит — не ему, компьютеру! — «Катись, катись яблочко, по золотому блюдечку, покажи мне страны чужедальние, горы высокие, океаны глубокие, а раз ты такое умное, пятьсот тысяч баксов стоишь, заодно покажи, что у пациента болит, и как это называется!». Вот и Кавалерова вашего — вертели, крутили, просвечивали — а спросить толком, что же он ел в этих дальних поездках — не догадались. Я ведь тоже не семи пядей — скромно признался Витольдович, — однако рассуждал логически: у больного какое–то легочное заболевание. Вероятнее всего, полученное в Африке, или где он там был. В организм возбудитель мог попасть через легкие — вероятнее всего, через желудочно–кишечный тракт, и через кожу и слизистые. Все сделали упор, что он чего–то надышался, я же посмотрел литературу и по тем болячкам, которые передаются через пищу, причем упор сделал на редкие болезни. Вы, может быть, помните N — он назвал фамилию молодой докторессы, работавшей у нас года два назад. Задержалась она не надолго, скоропостижно вышла замуж и вместе с мужем укатила в городок побольше, Москва, кажется, называется. — К ней как–то попал на прием мужичок, сердце, говорит, болит. Она ему — электрокардиограмму — все нормально, анализы — практически, тоже; рентген, УЗИ — изменений не выявлено. Мужичок полдня проходил, все добросовестно выполнил, потом она его за руку тащит — помогите разобраться. Я его спрашиваю — «на что жалуетесь?» Он мне тоже — «сердце болит». «А откуда», — спрашиваю, «знаете, что сердце?» «Ну, в груди», — говорит, — и пальцем в бок себя тычет. «Грудь–то не ушибали» — спрашиваю? «Ага», — отвечает, — «как вчера с телеги свалился, так сердце и болит». «Раздевали больного?» — это я уже у доктора. Та краснеть начинает, значит, не раздевала. Снимает дядька рубашку, а у него там — синяк. Ушиб грудной клетки, без перелома. Всего–то и надо было пару вопросов задать, а не отпускать его в бега по кабинетам. Случай идентичный этому — он постучал пальцем по амбулаторной карте Кавалерова — разве что масштаб не тот.
С Витольдовичем всегда так — спросишь что–нибудь простое — получишь «в нагрузку» воз философии.
Однако в кабинете, с табличкой «Кардиолог» на двери, сидела лишь медсестра, старательно заполняя какой–то документ.
— А Генрих Витольдович взял отпуск за свой счет, у него мать заболела, будет через 2 дня, ну, может, через три, не помню точно — ответила она мне на вопрос «где светило?» На нет и суда нет. Я вернулся в отделение, переоделся, и, пожелав Денису на прощание «широкого горла и надежной вены» выбрался, наконец, из порядком уже надоевшей больницы. Никакие злодеи в этот раз меня не подстерегали, так что я без приключений добрался домой. Вытянувшись на диване, я открыл бутылку пива, брызнувшую на меня капельками пены, и с наслаждением потянул длинный глоток ледяного, режущего напитка. Нашарив ногой пульт, я подтащил его поближе и, нащупав самую потертую кнопку, нажал ее, включив телевизор. Шли новости — однообразные: в Ираке и Чечне взрывали, в Португалии горели, в Латинской Америке, наоборот тонули. Число жертв проговаривалось равнодушной скороговоркой, так что было совсем не страшно, ощущения, что люди умирают, или становятся инвалидами, не было. Я попробовал настроиться на гневный лад, представить, что вот, где–то в иракской больнице сейчас бедолагам хирургам предстоит оперировать израненного осколками мальчика, может быть ампутировать ему ноги, а может, у него взрывом разворотило живот или в долю секунды выжгло глаза — не получалось! Не болит чужая боль на экране. Нормальное телевизионное воспитание.
Занавеска в открытой балконной двери колыхалась от слабого ветерка, от выпитого пива и бессонной ночи веки начали тяжелеть, пару раз я выключался на несколько секунд, после чего, махнув рукой на запланированные дела (сходить купить чего–нибудь поесть, постирать, убрать, наконец, в квартире) погрузился в сладкий сон. Проспал я почти до вечера, проснувшись же, послонялся по дому, сымитировал попытку уборки на кухне, посмотрел какой–то бестолковый сериал, где очередные спецназовцы крушили всех врагов отечества (российского? американского?). После того, как парочка главных героев убежала по коридору от пламени догоняющего их взрыва, телевизор я выключил. Оно, конечно, условности, особенности жанра там, и проч., но приходит ли в голову создателем подобных спецэффектов мысль, что бегут–то их герои со скоростью несколько сот метров в секунду — поскольку, завидев взрыв, оборачиваются, и от взрыва таки убегают. Наскоро соорудив пару горячих бутербродов в микроволновке, я опять завалился спать. Сон, однако, шел ко мне со скоростью одноногого участника Крымской кампании, видно днем я выбрал всю норму. Опять же, кофе. Промучившись до 2‑х часов ночи, я плюнул, слопал таблетку радедорма, оставшуюся от тех незатейливых времен, когда купить его в аптеке было так же просто, как аспирин и все–таки отрубился. Одной из мыслей, пока я не провалился в душноватый медикаментозный сон, была та, что благодаря таким вот коктейлям из кофеина с транквилизаторами, с изрядной дозой адреналина, вырабатываемого на работе, до пенсии мне точно не дотянуть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Николай Шпыркович - Лепила[СИ]](/images/nocover.webp)
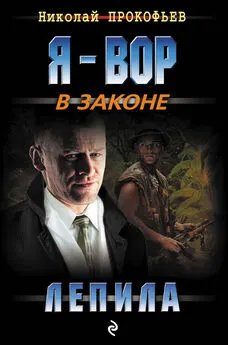
![Алекс Любич - Лепила [СИ]](/books/1150350/aleks-lyubich-lepila-si.webp)
