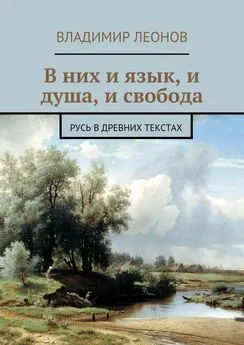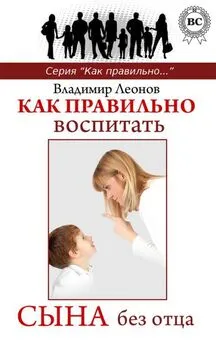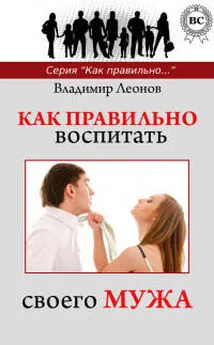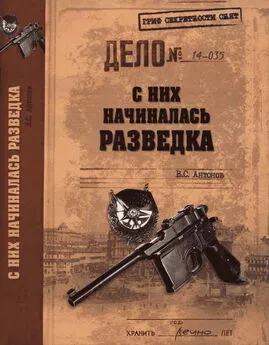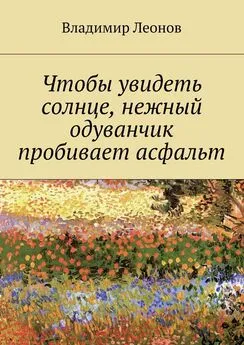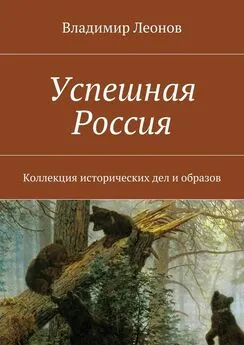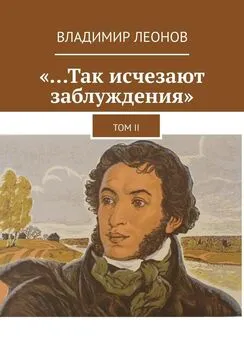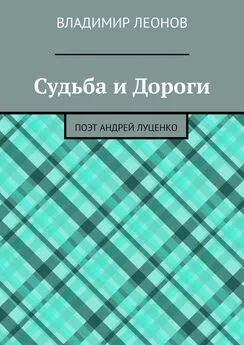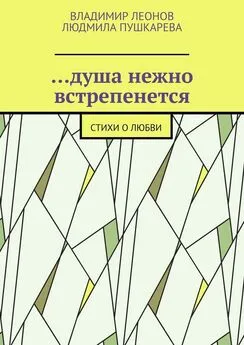Владимир Леонов - В них и язык, и душа, и свобода. Русь в древних текстах
- Название:В них и язык, и душа, и свобода. Русь в древних текстах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448348051
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Леонов - В них и язык, и душа, и свобода. Русь в древних текстах краткое содержание
В них и язык, и душа, и свобода. Русь в древних текстах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нелишне обратить внимание и на тот факт, что в Повести лишь двое из жен Владимира называются по имени: это Рогнеда и Анна. Именно они оказываются и действующими лицами в двух описанных версиях реализации архаического мотивного комплекса. По-видимому, эти два брака рассматривались летописцем как особенно значительные. И неудивительно. Ведь Рогнеда – варяжская княжна, тогда как Анна – византийская принцесса. Таким образом, при помощи этих двух браков, второй из которых прямо династический, Владимир стяжает родство с двумя ведущими народами современности, варягами и греками.
Зарождающаяся русская нация взяла от сопредельных народов то, что составляло их достоинство в истории. От варягов был взят институт сильной военной княжеской власти, легшей в основу государственного устройства последующих времен. От греков было принято христианство, вводившее Русь в космос европейской культуры. Однако летописец не преминул показать, что то и другое было взято славянами не путем просительства, а с позиции равенства, обеспеченного силой.
Призванию варягов предшествовало их изгнание (862 год). Варяги прежде собирали дань со славянских земель как захватчики. Они были изгнаны. И уже после этого были приглашены Рюрик, Синеус и Трувор, княжение которых заключалось в том, чтобы «судить по праву». Затем, в 988-м году, крещение было принято от греков на фоне убедительной военной победы, поставившей под угрозу суверенитет Константинополя. Как видно, в обоих случаях состоится демонстрация силы, после чего славяне принимают от соседей то, что им необходимо: военно-княжескую власть и начала христианской цивилизации.
До сих пор мы видели, что летописец использует в качестве суггестивного средства обращение к моделям архаического сознания, очень живым и внятным для его современников-соотечественников, людей, лишь недавно оторвавшихся от языческой стихии. Именно такая апелляция к ресурсам архаической психики и становится основным приемом текстопостроения, регулярно используемым летописцем.
Однако и аллюзии и реминисценции, относящиеся к христианской сфере представлений, также присутствуют в Повести в качестве организующих текст приемов. Так, при рассказе о крещении Владимира вводится эпизод со слепотой: князь внезапно теряет зрение, и получает от царицы известие, что прозреет, когда крестится. И действительно, в ходе совершения обряда Владимир прозревает.
Этот эпизод содержит прямую реминисценцию из Нового Завета, из Деяний апостолов (Деян. 9: 17—18). Савл, видный фарисей и гонитель христиан, был поражен слепотой от Бога и прозрел, принимая крещение, после чего он становится апостолом Павлом. Эта реминисценция приводит читателя к сопоставлению двух исторических лиц, апостола Павла и князя Владимира. Обращение и дальнейшая проповедь первого начинает рассматриваться как прецедент к деятельности Владимира. Не случайно в русской средневековой книжности князь Владимир величается как «равноапостольный»: соответствующий концепт уже заложен в Повести.
Другое сопоставление организуется при помощи интерпретации крестного имени княгини Ольги: Елена. Это имя матери византийского императора III века Константина, который сделал христианство в Византии государственной религией. Под 1015 годом, воздавая хвалу Владимиру, летописец прямо говорит: «То новый Константин великого Рима; как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же». Родственная пара Елена – Константин в византийской истории (мать – проповедница христианства, сын – креститель) находит параллель в истории русской, хотя и с добавлением расстояния в одно поколение родства: Ольга – бабка, Владимир – внук. За счет этого приема византийская история начинает выглядеть как своего рода прецедент для русской; а русская, в свою очередь, как новая версия и продолжение византийской.
Нетрудно заметить, что последнее сопоставление дает почву для историософских интерпретаций мессианского характера: о неком избранничестве, или особом историческом пути Руси. Византийская история продолжается в русской, то есть Русь принимает эстафету мирового христианства. Это та самая идея, которая спустя почти пятьсот лет оформилась в известную концепцию « Москва – третий Рим» у старца Филофея и идеологов эпохи Ивана Грозного.
Содержание этой концепции основано на идее «странствующего царства». Согласно этой идее, на земле всегда есть только одно подлинное, «от Бога», царство. Первой столицей этого царства был Рим. После его падения земное царство переместилось в Византию, столицу которой, Константинополь, так и называли: второй Рим. После падения Константинополя в XV веке крупнейшей православной землей стала Русская земля, впоследствии стремительно централизовавшаяся вокруг Москвы и превратившаяся в национальное государство. Поэтому на Руси возникло представление, что «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать».
Первоначально эта концепция имела апокалиптический характер: не бывать не потому, что московское христианство самое лучшее и в силу этого окончательное; а просто потому, что времена заканчиваются. Ведь тогда со дня на день ждали конца света. И лишь впоследствии, в XVII столетии, эта концепция приобрела черты имперской идеологии, в каковом прочтении бытует в отдельных кругах и поныне.
Корни этой концепции, пережившей новый расцвет во второй половине XIX – начале ХХ столетия, как видим, находятся у самых истоков русской христианской культуры.
Необходимо помнить то обстоятельство, что между летописным изложением и подлинными событиями может существовать зазор. Рассматривая памятники письменности, мы имеем дело не с фактами истории, а с текстом, в котором эти факты так или иначе преломились и для которого они послужили только материалом. Направление преломления фактов связано с теми задачами, которые ставил себе создатель текста. И можно судить о задачах, важных для создателя Повести . Работая с текстом летописи, мы стремимся понять так или иначе выраженные замысел и цель летописца, а не реконструировать достаточно зыбко проглядывающие за ними факты эмпирической истории.
А цель летописца, как видно, заключалась в том, чтобы показать: Русь соединила достоинства варягов и греков и унаследовала мифологизированный исторический опыт Византии – второго Рима, таким образом, сделавшись выдающейся силой христианского мира. Для достижения этой цели книжник использовал отсылки к фольклорным и мифологическим представлениям, а также прием реминисценции.
Повесть , таким образом, предстает нам как особым образом «сделанный», то есть специально выстроенный, текст.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: